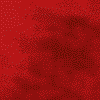Максим Яковлев, рассказы
ПИР
I.
Он уже столько раз это слышал:
"Когда делаешь обед или ужин, не зови ни друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых... Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе..."*
Ему представилось это немыслимое застолье, он видел их резко, как наяву: пугливые, похожие на бомжей...
"Это что, каждый день такой пир им устраивать? - подумалось ему. - Или раз в год?"
- Попробуй, - услышал он вдруг, - хотя бы один раз в жизни устрой такой пир. Если сможешь ...
Это было к нему. Повисла пауза. Краем глаза он успел заметить, будто несколько профилей уже поворачиваются в его сторону, недоуменно. "Если сможешь..."
- Сегодня и сделаю, - сказал он немного обиженно.
Но получилось громогласно, ветер с озера усилил голос и разнес над всеми стоящими: "Сегодня!"
- Сегодня, - тихо повторил он, не вполне понимая происходящее...
И какое-то время он так и стоял, ничего не слыша и не замечая вокруг... Пока, возвращая его в реальность, не пришла ему мысль спросить: а нельзя ли устроить этот самый "пир" где-нибудь в другом месте, отдельно (какая разница-то?), да и удобнее будет, как ни говори. Но упустил время, его оттесняли быстро другие, и он успел крикнуть:
- Отче, благослови!
И получив благословение, выбрался, наконец, из толпы и вышел к дороге.
Повезло человеку, если подумать. Всего "один раз устроить" и "блажен будешь", какие проблемы? Дом большой, слава Богу, столы только расставить. Непонятно только, почему именно ему сказано было про этот "пир", народу-то всякого хватало? Хотя понятно, конечно: видно, что человек с достатком, любит поесть, посидеть в компании... да, тут все просто. "А что в самом деле, - рассуждал человек, - почему бы и нет? Можно ведь устроить все на улице, у старого акведука, там тихо, природа... сколотить столы (погода позволяет), и мест будет больше и вообще... Нет, сказал он себе, нельзя. Тут вся штука в том, чтобы в доме (в том то и дело!), где и сам обедаешь, а то что ж это - устроил им где-то там подальше: вот я уважил вас, да? Так это ж фарисейство..." Но тут он вспомнил, что обещался-то он "сегодня"! На часах было без четверти два. "Ну что ж, сегодня так сегодня, - вздохнул он... - Тогда уж надо устроить так, чтобы они всю жизнь свою помнили... и не просто накормить, а что-нибудь такое еще для них придумать, словом, чтобы помянули его хоть пару раз в молитвах (это ж великая сила - молитвы таких вот людей!), они, говорят, прямехонько Богу в уши идут. Так почему бы и не расстараться, "хотя бы раз"! Что я? Ведь не мое ж все это. Господи, помоги..."
Олег Васильевич Мамонов, владелец торговой фирмы, жил за городом, был женат, но бездетен.
- Слово-то какое - "пир"! - усмехнулся он, - а чем он собственно отличается от того же застолья?
И стал припоминать богатырские и рыцарские пиры из детских фильмов и книжек: стены, увешанные коврами, кубки, чаши, и почему-то хохот, пляски и ряженых... Стало смешно, он съехал с шоссе, притормозив у знакомой выбоины, и, свернув в проулок, составленный сплошь из глухих заборов, въехал в свои ворота, которые, впустив его, так же автоматически и закрылись, мягко стукнув массивными стальными створками... Замечательно. Только как он скажет об этом своей Любане? Одна голая мысль о таком "пире" может ввергнуть ее в неуправляемое состояние: бомжи в ее доме!! Толпа немытых, дурно пахнущих и больных людей, наверняка, жадно чавкающих, с какими-нибудь вшами, с гноящимися нарывами, ранами... Нет, он не боялся своей жены, его слово оставалось решающим, в крайнем случае, он мог бы и рявкнуть, но дом, дом - это все, чем она жила, дом был отдан целиком в ее ведение, к тому же скандал в таком (святом!) деле может попросту обесценить его, свести на нет. Но, с другой стороны, приходилось учитывать и последствия, жить-то ему не с бомжами, а с ней. Он понимал, что ему предстояло совершить нечто особенное, из ряда вон выходящее, оно вырастало пред ним, дразня и бросая вызов своей пугающей невероятностью, но именно этим-то и разжигало в нем с каждой минутой знакомое с детства еще нетерпение, когда предстояло пойти на риск и добиться, во что бы то ни стало добиться того, что казалось заведомо неосуществимым, и сейчас он по-настоящему боялся лишь одного: что ему помешают, что ему не удастся этого совершить.
- "Попробуй хотя бы раз", - проговорил он тихо, - "Их-лебедих, Любаня". (Это его излюбленное выражение, по-немецки: Ich liebe dich - их либе дих - я люблю тебя.)
Олег Васильевич медлил. Он стоял в саду, за домом, в таком месте, где она никак не могла его видеть. "Да, придут, - думал он, - будет грязно, ковер можно будет выбрасывать, стулья тоже засалят-запачкают чем-нибудь, и это ладно, не беда, ну повоняет и выветрится, а что не выветрится, то и сжечь можно в конце концов, ну и что? что такого? не пожар, не землетрясение, - накормить горстку бомжей... Ладно, как бы там ни было, но я сделаю это".
Осень выдалась холодной и хмурой, но яблоки были, они висели одинаковыми шарами, неподвижно. Он ступил на красный песок дорожки и пошел к дому.
II
На Любаню он наткнулся прямо в холле, и, старясь не прятать глаза, произнес:
- Паршивое состояние какое-то, еле добрался...
Она увидела, как он недовольно поморщился и не нашлась, что ответить, как-то все застопорилось в ней. Он поднялся по лестнице в свою комнату и закрыл дверь. Год назад было что-то подобное, он так же пришел тогда раньше обычного, так же поднялся к себе и лег... И в Любане тотчас ожил весь ужас ее тогдашнего состояния, и та леденящая угроза: "предынфарктная ситуация", а вслед за этим страх его смерти и ее растерянного одиночества, а там и совсем уж какая-то нелепая, другая жизнь, которую она боялась себе представлять, и в которой ей уже заранее не хотелось жить... Не помня себя, она поднялась наверх и нашла мужа лежащим на диване, под пледом, с затемненным от света лампы лицом.
- Олег, что с тобой?
- Не волнуйся.
- Сердце?... как тогда?
- Так... слабость какая-то, непонятная.
- Олег, я вызываю врача.
- Чепуха, не гони волну.
- Олег!
- Не волнуйся, я не думаю, что как тогда.
- Тогда тоже была слабость, ты хочешь теперь полного инфаркта?!
- Если ты не будешь доводить до него... непонятно, чего ты добиваешься своими криками...
- Прости Олег, но я слишком...
- Вот именно "слишком", Любаня. Перестань, я консультировался. В общем ничего смертельного, советуют полежать, на всякий случай. И я прошу тебя запомнить: все войдет в колею, "без шума и пыли", понимаешь? И никакого мрака, - он улыбнулся, - если только ты сама не захочешь этого.
- Хорошо, - сказала Любаня.
- Я "туда" не собираюсь... и оставим это.
- Хорошо.
- Тем более, что вечером... Ты не могла бы помочь мне? Надо управиться с одним дельцем.
- Кто-то должен придти?
- Я не знаю, в каком я буду состоянии, но это нужно сегодня...
- Их что, так много?
- Надо будет угостить... группу бомжей. Человек двадцать.
- Олег, ты в своем уме? Какие сейчас приемы?
- Это крайне необходимо, заодно как-то и раз влечет меня, надеюсь. Я очень жду этого, понимаешь? Это очень важно для меня.
- Они кто, опять из милиции? Или те, с Украины?
- Я не знаю, я знаю, что они бомжи, бродяги, нищие...
- В каком смысле? Настоящие?!
- Самые натуральные, живьем.
- Олег...
- Так я могу на тебя рассчитывать?
- Я не понимаю... но почему у нас?
- Н-да, как я и предполагал, - скривился он, придется самому.
- Хорошо, ну хорошо! Сколько их?
- Я же сказал, двадцать человек. Накрыть в гостиной. И ничего не менять там! Прошу тебя, не заводи меня, пусть все будет, как есть.
- Это что-то религиозное?
- Да.
- Хорошо, но пусть это будет завтра, послезавтра...
- Пойми, это действительно важно для меня, если я делаю это в таком состоянии! И не только для меня...
- Олег... Олег...
- Ну что "Олег"?
- Не представляю, не представляю...
- Завтра, когда поедем к Борисовым, я тебе все объясню. Если хочешь. Позови ко мне Камарика и Григорича.
- Ты что-нибудь принимал из лекарств?
- Да.
Похоже, его план удавался.
- Потерпи, - он хотел улыбнуться, но почему-то вдруг закрыл глаза.
Она повернулась и вышла из комнаты.
- Их-лебедих, Любань, - сказал он.
Любаня спустилась вниз. Потом ходила по комнатам. В слезах. Потом стояла у окна, не отходя... Наконец, появилась в саду, в накинутом наскоро плаще, тыча пальцем в кнопки мобильного телефона.
III
Олег Васильевич находился весь в какой-то внутренней дрожи, что, впрочем, нетрудно было объяснить, между тем, обстоятельства складывались удачно, голова была легкой и ясной, все было продумано: Камарик привезет "кондитерку" - что-нибудь из непачкающегося (печенье, вафли, эклеры), вареную колбасу - двух сортов, буженину, красную рыбу (никаких консервов), сыр... На горячее будут щи и пельмени (настоящие), на десерт - виноград, бананы, клубника. Чай, кофе, сливки. Каждому с собой в пакет: кусок копченого сала, конфет, сухарей и немного денег (много нет смысла - все равно пропьют), плюс аптечку: анальгин, вазилин, пластырь... А вот Григоричу, тому самое основное: найти, подобрать и привезти бомжей, уж каких найдет (за исключением откровенных дебоширов и алкашей), и потом их аккуратно проводить, может, и подвезти, кому надо. За Григорича он был спокоен, только бы обошлось без "сюрпризов", а то, не дай Бог, не наберутся или разбегутся, или побоятся, или еще что. Григорича, однако, в доме не оказалось, передали, что поехал "насчет саженцев" и что будет к пяти (что, в общем, было не к спеху, раньше он, пожалуй, и не понадобится), а потому, отпустив неунывающего Камарика, Олег Васильевич снова прилег, продолжая прокручивать в голове предстоящие хлопоты, и все ли удается предусмотреть... засмотрелся на большую старинную гравюру, изображающую шествие невиданных парусников, и непонятно как, совершенно не желая того, заснул...
Любаня, забившаяся в угол сада, тот самый, в котором совсем недавно прятался ее супруг, причитала в мобильник:
- Лева, я не знаю, что делать! Я не знаю, Лева! Не знаю! У него опять какие-то религиозные заскоки и теперь он решил притащить в свой дом бомжей, настоящих вонючих бомжей! Лева, это как дурной сон, я не знаю, что со мной будет, я сойду с ума от всего этого! Он такой, как в тот раз, когда был микроинфаркт, помнишь? Мне жутко смотреть на него, я боюсь! Но как представлю у нас этих вонючих немытых баб, этих грязных алкашей!..
- Стоп-стоп-стоп, - перебил Лева, - погоди, не накручивай себя, дай подумать. Что-то здесь не то... Что-то не то... Уж не собрался ли он отмочить ту библейскую притчу, а?
- Лева, я не понимаю, о чем ты говоришь, я не знаю, что творится, я чувствую что...
- Постой, Любань, я, кажется, понял в чем дело. На той неделе он пригласил нас в одно местечко, хотели посидеть, поболтать, то-се, давно уж не собирались... и сорвалось, понимаешь? Он, кстати, хотел привести еще какого-то писателя православного, что-то ему зачесалось вдруг свести нас, а у меня подмена случилась, у нас ведущий эфира свалился с температурой, и я не смог, и у других тоже мужиков что-то не сложилось в тот день, ну бывает! Я ему звонил тогда, и он как-то странно так разговаривал, мне показалось, обиженно, но я не думал что... - Лева сделал паузу и присвистнул, - точно, он надулся и решил, значит, в отместку... "много званных, да мало избранных", поняла? Ну, Оле-е-г! Слушай, он там действительно, похоже, рехнулся в этой вере своей, его спасать надо, ну Оле-е-г!
Любаня все равно ничего не поняла, она знала одно: Лева умный, он, может, хоть что-нибудь придумает, на это была вся надежда.
- В общем, слушай, все проще банана: он прикинулся больным, чтобы претворить свою идею в жизнь, прекрасно зная твою реакцию на все это, поняла? А иначе бы он не протащил ее, - это же как дважды два! Ты вот что, ты его сейчас не трогай, пусть себе изображает "больного Карлсончика", я тебе дам телефон одного врача, профессора (он у нас частенько тут подрабатывает на радиостанции), с ним можно договориться, пожалуй, я сам с ним поговорю предварительно, потому что мне тоже все это не нравится... вот пусть он его обследует. К тебе придраться невозможно, ты как жена, как близкий человек, естественно, беспокоишься о здоровье (о жизни!) горячо любимого мужа, кто в тебя "бросит камень"? Ты же не виновата, что он блефует, ты же не знала! Если хочешь, можешь сослаться на меня, даже лучше всего сошлись на меня, действительно, скажешь, что я звонил узнать, как дела, ну ты и рассказала, понятное дело... а приедет профессор - скажешь, что Лева прислал, поняла? Вот так. А когда все вскроется - крыть ему будет нечем, затея его сорвется, побурчит, посмеемся, на том все и кончится. Так что, Любаня, не дергайся и успокойся, сейчас (минут через десять, не больше) я перезвоню тебе, подожди. Ну, дела. Любаня закусила губу и перевела дух.
- Ох, ты Мамонов, - тихо сказала она, - ох ты Мамо-о-нов! - принялась трясти она тугую ветку яблони, чувствуя, как вздрагивает земля под ударами яблок.
IV
Олегу Васильевичу приснилось, как он летал. Происходило это так: он идет, глядя под ноги, по черным полированным плитам... в нем нестерпимо желание полететь, настолько нестерпимое, что он еле сдерживает себя; вот сейчас это произойдет с ним... он волнуется, но не подает вида, он даже знает, как то будет... люди крутятся вокруг и посматривают на него, подозревают, что он собирается что-то сделать и даже как будто ждут от него этого, но тоже не подают вида, обходят его, освобождая впереди пространство... И он уже не может удержать улыбки (ну не виноват он, что он умеет это, а они нет!), разводит самолетиком руки (пора!), еще один шаг и он, отталкиваясь, начинает падать, он падает людям под ноги и не боится... остается несколько сантиметров до черного гранита, он скользит над полом, задевая его пуговицами рубашки, и вот сейчас (так просто!) он поднимает голову прогибается и уходит от пола вверх, все круче и быстрее - вверх... летит уже над чьими-то головами взлетает по плавной большой дуге, забирая немного влево... делает круг над всеми и над землей (почти невидимой уже), и ветер бьется за пазухой холодный, свежий (словами не передать!) и ему теперь абсолютно ни капли не стыдно перед ними!! Потом он снижается и опускает вертикально корпус, и касается ногами пола, опять идет вместе со всеми с раскинутыми руками, с ним заговаривают и смеются и не знают, какая это нестерпимая тяга, какая это дикая радость и счастье! И пусть думают, что хотят, но он делает шаг и отталкивается, и снова па дает вперед самолетиком, скользит на бреющем полете, и снова взмывает, прогнувшись, стремительно и плавно вверх... Потом он сидит на вершине огромного дерева (хотя только голый ствол и сук), смотрит вниз, в нем поднимается неодолимое желание слететь туда к ним, и он, немедля, срывается, как ныряльщик, и падает почти отвесно... он знает что перед самой землей паденье замедлится, он опустит ноги и встанет твердо, как все... свистит е ушах, все бешено растет на глазах, надвинулась од ним ударом земля (он еще подумал, что, если бы он не знал, как все будет, то, наверное бы, умер со страха), но он уверен, вот уже головы людей, дорога, камни, а скорость не меняется, он не успеет!..
- Олег!
Он вздрогнул и проснулся от стука в дверь.
- Олег, это я, - услышал он голос Любани.
Олег Васильевич мотнул головой и принял полусидячее положение.
- Олег, вот доктор, он профессор... я, то есть. Лева, мы все...
- Я понял. Оставь нас вдвоем, пожалуйста. - сказал он негромко.
"И это мы тоже предвидели, Любаня", - подумал он, разглядывая доктора: под подушкой лежал его портмоне, содержимое которого, способно было "уговорить" любого профессора. Не знал он лишь одного...
"Так вот с кем придется иметь дело, - прикидывал профессор, рассматривая своего "пациента", -новоявленный святоша, решил купить себе место в раю, а как насчет лжи, уважаемый ? Или она у вас не считается, когда, так сказать, "во Благо"? Ишь ты, умник какой, накормить кучку бродяг, и готово! Да если б все было так просто, дорогуша, все только бы этим и занимались: наперебой кормили б друг друга и берегли, как зеницу ока... И вроде умный с виду мужик, а вот и его окрутили христианской моралью, и ведь не втолкуешь теперь, что это всего-навсего ханжество и дешевые жесты... Блефуем значит, господин Мамонов, давай-давай, посмотрим, как это у нас получится, может, и взяточку предлагать будете, так не возьму я, из принципа". Но вслух сказал:
- Ну-с, как говорят доктора у классиков, на что жалуемся?
- Да так что-то. Присаживайтесь, профес... - едва он успел пошевелить рукой, как был пронзен невесть откуда взявшейся болью!
- Не беспокойтесь, - сказал профессор.
Он наблюдал за ним, стоя у двери... Потом подошел и коснулся его руки.
Олег Васильевич лежал неподвижно, глядя на него испуганными глазами, еще раз попытался заговорить:
- Что-то кольнуло...
Профессор посмотрел ему в глаза и открыл саквояж:
- Разберемся.
V
Любаня снова ходила по комнатам, теперь она больше всего на свете боялась скандала, ее пугало непредвиденное, какая-нибудь ошибка, чреватая катастрофой: "Почему он так спокойно отреагировал на этого профессора? Рассчитывает договориться, подкупить? Ох, Мамонов, если подтвердится, что ты здоров, пусть только подтвердится!.. Ты у меня напляшешься! На этот раз "заболею" я, так "заболею", что ты не только о бомжах, ты и о церкви-го своей позабудешь, уж это я тебе обещаю!" Она еще много думала на эту тему и все время что-то подталкивало ее, как будто ей непременно нужно было куда-то спешить, что-то срочно делать, как будто она может упустить что-то важное и тогда случится непоправимое, страшное... Эта навязчивая тревога не давала ей передышки, словно все несется к какой-то развязке, все разворачивается слишком быстро, наскакивая друг на друга, в каком-то безумном вихре...
А между тем, часы еле передвигали стрелки, и, казалось, этот профессор никогда не выйдет из кабинета. К тому же оттуда давно не доносилось ни звука. Тишина ее угнетала, включенный телевизор раздражал дебильной рекламой, она не выдержала, поднялась наверх и подошла к двери, но в этот момент дверь открылась и к ней вышел озабоченный (или раздосадованный?) чем-то профессор. По дороге к машине он изложил ей свое мнение о происходящем:
- Что я могу сказать... ничем не могу Вас порадовать, во всяком случае можно говорить о том, что подтверждается.
Любаня не верила ни единому его слову: "Сговорились! Подкупил или пригрозил, наверняка!" Она шла, механически кивая ему головой, пропуская мимо ушей его доводы и медицинские термины... ей нужно было одно: суметь подловить этого "профессора" на фальшивой интонации, на игре, на притворстве...
Профессор понял, что его не слушают, он остановился, взял ее за руку и сказал:
- Поверьте, я действительно говорю Вам правду, более того, я пытался уговорить его, как-то отговорить его от этой ненужной затеи... но он слишком уперт в нее! Для госпитализации, увы, пока нет достаточных оснований; все-таки положение не столь серьезно, думаю, сказалось излишнее напряжение. В общем, могу лишь посочувствовать Вам... Но во избежание худшего, думаю, надо уступить ему, он, видимо, ждет от этого неких положительных эмоций, ну что ж, они ему действительно пригодились бы... Не отчаивайтесь, постарайтесь посмотреть на все философски: в конце концов, здоровье Вашего мужа дороже каких-то временных неудобств... хотя, я понимаю, что это значит, в своем доме! Смиритесь. Всего Вам наилучшего. Рецепт я оставил там, на столе... ну, не надо так напрягаться! Прощайте...
Приехал Камарик, привез "кондитерку" и все остальное.
Любаня побрела в дом, думая, как ей подниматься к мужу: "Теперь он знает, что профессора подослали, начнет рычать, ему станет хуже и что тогда?! Что?! За что мне все это?!!"
VI
Олег Васильевич лежал в том положении, в котором оставил его профессор, и смотрел на потолок, на коричневые, в глубоких и ровных трещинах, дубовые балки... Он смотрел на них медленно, почти неподвижно, наверное потому, что понимал, что это конец. Конец. Он почувствовал это еще до ухода профессора (тот так ничего и не понял), как-то неуловимо, но в то же время и сильно почувствовал этот неумолимый знак Оттуда и об этом... хотя мозг его все еще не мог опомниться: как это в несколько часов превратиться из активного, полного жизненных сил мужика в умирающего человека? Он все-таки удивлялся себе... удивлялся тишине, которая царила в нем, но больше всего удивлялся тому, что нет в нем никаких вопросов, никаких "почему? зачем? за что?" как будто бы он знал ответы... как будто знал... "Теперь хватило бы сил довести до конца основное , - думал он, и еще: "Любанька, что с тобой будет? Бедный мой лебедих..."
Любаня вошла и стала слушать, что говорил ей муж. Особенных перемен в нем она не нашла, было заметно, что ему хотелось держаться непринужденнее, а настораживало то, что он ни разу не повысил голос, и ей ничего не оставалось, как стоять перед ним, стараясь не смотреть в глаза. А говорил он о том, чтобы поискали в кладовке два бронзовых трехрожковых подсвечника, которые подарили ему на юбилей в том году, и чтобы поставили на стол с восковыми свечами, и чтобы настелили его любимую зеленую с вышивкой скатерть, и чтобы вырезали крупно буквы "М" и "Ж" и прикололи к дверям туалета на первом этаже, и чтобы не заменяли стулья лавками и табуретками, а лично ему чтобы оставили место в торце стола у камина... и велел позвать, когда появится, к нему Григорича, немедленно...
Едва дождавшись конца разговора, она схватила со стола рецепты и бросилась вниз: картина предстоящего бедствия предстала ей вновь, в самых отвратных подробностях и деталях, она чувствовала, что теперь ей уже не уйти от этого кошмара! Послав Камарика в аптеку, она выбежала с мобильником в сад.
- Деловой! - взорвалась она, - туалет им еще подавай! Стулья атласные гадить! Как же! Разбежалась!.. Ну, нет, Мамонов, ты меня не знаешь! Нет! Нет!! Через мой труп!
Она набрала Левин номер, она снова звонила Леве, этому горе-Пуаро (кому ж еще было звонить?), больше некому. Как она и предполагала, Лева был уже в курсе, а потому растерян и вял:
- Не знаю, что тебе посоветовать. Может, попытаться как-то все же уговорить его отложить этот вертеп, хотя бы до завтра, а там..
- Лева, ну как я теперь к нему подойду? Ты бы видел его! Я все-таки боюсь за него, боюсь, понимаешь? У него ведь действительно...
- Да знаю! Дались ему эти бомжи.
- Жутко, Лева, кошмар!
- Может, снотворное или укол какой?
- А что это даст? Потом еще хуже будет... и потом, ты же знаешь его, он весь, как зверь, подозрительный становится, не подступишься...
- Да, с ним тяжело, когда он такой.
- Вот и я про то. Но что же делать, Левушка?! Я уж, кажется, на все готова, как подумаю только... ведь это дурь, ведь дурь же самая настоящая!
- Без сомнения, и еще какая! Но я не знаю, Любань, не знаю, ничего в голову не приходит... Как его спасти? Не знаю!
Она замолчала, собираясь с духом... потом сказала;
- Лев, а Лев?
- Что?
- Помнишь, как в Баковке у вас гуляли, на масленицу? Ты еще там с твоими ребятами прикалывались?
- Ну, помню,
- Лев, а Лев?
- Не пойму ничего, говори проще.
- Ну, такие классные из вас "калики перехожие" получились! Помнишь, еще бабулька какая-то разжалобилась, глядя на вас, помнишь?
- Хм...
- Ле-о-в...
- Артистов моих, что ли, подкормить предлагаешь?
- Ты гений, Лева.
- Ну, ты даешь, Любаня, однако.
- А что?
Он вдруг разразился заливистым смехом (издевательским, как ей показалось) и также резко оборвал его:
- Да нет, это не возможно.
- Вы же с детства с ним вместе, Лев. Ты же знаешь, он тебе всегда все прощает... Ты видишь, куда он катится, ты же друг ему!
- "Друг"... Там у него теперь другие друзья.
- Ле-ва!
- Ну что "Лева"? Что?! Остался последний шанс:
- Ничего... Ничего, Лева. Хрен с ним, пусть пропадает. Извини.
- Сказал бы я тебе за такие слова!
- Ты прав, Лева: кого колышет чужое горе? Ладно, живите долго...
- Сколько там мест?
Она молчала.
- Сколько, ну?
Без ответа.
- Ты можешь ответить?
- Стульев восемнадцать штук. Один он за собой оставил.
- Значит семнадцать... многовато. Где ж он их столько наберет-то?
Любаня затаила дыхание.
- Надо подумать. Люба... Это все не так просто. Она ждала.
- Ну и денек сегодня. Ой чую, что-то будет... Она ждала.
- Ладно, сколько у меня времени?
Почти все готово уже, щи варятся... Он ждет Григорича, чтобы послать за этими...
- Григорича? -Угу.
- Тормозни его. Сама понимаешь, из меня шестнадцать копий не выйдет. Надо решить в принципе: основных ребят сагитировать...
- Как скажешь.
- Ладно, жди звонка,
Вот теперь можно было выдохнуть, Любаня вышла из тени и отправилась в дом сторожить Григорича:
Только бы получилось. Господи! Только бы получилось!..
VII
Лева рассуждал трезво: "Все в общем-то вполне реально. Если этот "номер" удастся, все останутся "при своих": он доволен тем, что сподобился побыть "благодетелем", Любаня - тем, что спасла свою мебель и дом, ребята - супер-акцией (высший класс исполнения, между прочим) и даровыми харчами, а я - тем, что исполнил свой долг, и что все закончилось благополучно (хотя, конечно, маловероятно, что все пройдет так уж гладко, слишком уж мало времени на подготовку), а если не удастся... А если не удастся? Если сорвется, с ним приступ, инфаркт или, не дай Бог, похуже... виноват буду я? Нет уж, лучше тогда изначально избрать вариант, как бы это сказать... не с розыгрышем, а скорее с заменой... да, с заменой, как говорят спортивные комментаторы, "смена состава". И ребят соответственно настроить, так чтоб не переигрывали. Выбрать очень точно момент (но не сразу, для начала надо будет продержаться "бомжами" минут двадцать), потом прервать это действо и сказать, (думаю, сумею ему это сказать, думаю, что сумею. Без надрыва и пафоса. Но тихо и горько.), примерно в таком духе: "Да, это я, Олег, - твой друг. И со мною те, многих из которых ты знаешь, наверное, то есть, думаю, те, которые по-твоему не заслуживают такой милости и такого пира (стол-то наверняка богатый будет, не станет он прижиматься, уж я-то знаю), мы те, которых ты считаешь куда более благополучными, мы ведь те, которые ни в чем не нуждаются, в сравнении с теми людьми, которых ты хотел бы здесь видеть, ведь так? В твоих глазах мы, разумеется, недостойны такого внимания и сострадания, нам ведь все пофигу, мы безнадежны, мы настолько пропащие души, что на нас не стоит и тратить время, мы умеем только хохмить, высмеивать и кривляться, для нас нет ничего святого... и пусть так! Но Олег, неужели мы действительно настолько вот безнадежны? Конечно, дело не в пище, не в угощениях... да, у них пустой желудок, но у нас-то - пустая душа! Да, они бомжи плотью, но мы-то - душой! Ты, наверное, считаешь что тебя обманули, что над тобой посмеялись? Нет, Олег. Ты видишь - никто не смеется. Тут не до смеха, все намного серьезней.
Мы пришли не хохмить, мы хотели, чтобы ты понял нас, мы хотели этим сказать тебе, что мы намного грешнее, намного хуже, но и намного несчастней тех, которых ты ждал здесь... а кто, скажи, дальше из нас от Бога: мы или они? Им воздастся за их страдания, за болезни, за голод и холод... А нам? Что нас ждет, веселых и сытых? Что нам предстоит? Прости. Просто стало больно, когда узнал от Любы, что ты хочешь собрать в свой дом бомжей. Я сначала подумал: ну что ж, пусть будет с теми, кто ему дороже и ближе, но потом... Вспомнил все наши годы, наше детство... Все же решил, что друг не вправе вот так отвернуться от друга, что он неизмеримо несчастней их, что он тоже может пропасть без твоего участия, без твоей любви, без поддержки... Прости меня. Я неверующий, неправославный, я даже не знаю, какой ужасный грех на мне за этот поступок... может, здесь много гордыни, ревности, даже зависти, и, скорее всего, так и есть... Но прошу тебя, не отвергай меня, не лишай меня дружбы. И не обижайся на нас за этот маскарад, никому не известно, что будет с нами: сегодня мы - в цивильном, завтра - в рубище..." В таком духе. Я сумею сказать ему это. Я сумею срезать головки его "одуванчиков", так, что они не качнутся, даже не почувствуют этого. Да, Олег, я сделаю это. Я не отдам тебя попам и бродягам. Один у нас путь с тобой, старичок, один!"
Лева вдруг понял, что это - слава... "Это такой классный экшн! Такая акция, о которой будут говорить и писать на каждом углу, будут ставить спектакли, фильмы!.. На этом себе можно, пожалуй, сделать громкое имя!" Прекрасно понимал и то, что по сути мало чем он рискует: "Ну не выйдет же он из себя, он же христианин, христианам должно смиряться, и он смирится (Леве однажды уже приходилось видеть его таким), он даже расстроиться не успеет... а что расстраиваться: я же "покаялся", все как один будут "грешные" перед ним, "с повинной", так сказать. Простит, я знаю его...
Ну, а если не простит, если он настолько уже "их" стал, то в конце-то концов!.. Тогда уж все равно: он умрет для меня, я - для него и точка. Вины моей нет, Люба сама подбила! Впрочем, такой исход вовсе не обязателен... Простит, куда он денется. А может, он вообще проглотит весь этот маскарад за милую душу, тогда зачем раскрываться?"
С "массовкой" предстояли сложности. Правда, четырех своих протеже на радиостанции (его же бывших выпускников) долго уговаривать не пришлось, но самое главное - неожиданно легко согласились на эту безумную авантюру Аркаша и Денис (мастера куража и эпатажа, прикинутся кем угодно. это костяк, это залог успеха, это старые партнеры еще с совковых времен), плюс проверенный кадр -Фаина! Так что "сборная команда бомжей" приобретала вполне реальные очертания, не такая уж это проблема оказалась. К тому же весть о некоей "супер-акции" как-то быстро разнеслась по знакомым, и он, как будто нарочно, стал натыкаться на тех, кто был нужен и не нуждался в дополнительной аргументации. Мало того, разыскивали уже его самого и упрашивали взять с собой несколько ребят с телевидения (тоже проверенные кадры: виртуозы "подставы" с разных ток-шоу типа "Крик души", "Человек в маске", "Один из нас" и т.п.), и получалось, что уже набирается человек двенадцать-тринадцать. Но скоро напросились еще и еще... Ничего удивительного. Это же Лева - шоу-мен, блестящий профессионал, на радио автор и ведущий популярных программ, да и на телевидении он, как у себя дома и вся эта братия знает, что, если Левик что-то готовит, то это будет стоящее, что-нибудь рейтинговое или скандальное. "Бомжих" пока набралось всего лишь пять (а куда их больше?) Предвкушалось что-то необычайное, все были возбуждены, примерялись и конструировались "обноски", стоял хохот и гвалт, а самым хитовым слоганом стал: "Халява - святое дело!" Глядя на это бурлящее "отребье рода человеческого", Лева вдруг вспомнил Любаню: "Посмотрела бы она на то, как ее бабья выдумка наполняется "плотью и кровью", как говорят - материализуется в пространстве и времени... Да, что-то будет", - подумал он зло. Отступать было некуда. Он позвонил Любане и узнал, что Григорич сейчас у Олега.
- Уж полчаса все инструктирует его, - сказала она.
- Пусть себе инструктирует на здоровье, теперь, думаю, уже все решено, машина запущена. Где-нибудь через час мы будем в полной боевой готовности. А Григорича, как выйдет от него, тут же свяжи со мной, я имею поговорить с ним...
Действительно, с Григоричем уладилось быстро и без проблем. Она видела, как он слушал изумительно-барский Левин рокоток: вначале насупился, пару раз пытался что-то сказать, но потом уже только кивал и поддакивал. Возвращая трубку, он посмотрел на Любу с долгим нескрываемым любопытством, что возмутило ее, и окончательно взбесило, когда услышала от него, уходящего:
- ... Не ведают что творят, люди... Но Лева успокоил ее:
- Он больше не опасен, не боись, возникать не будет.
- Лева, я умоляю тебя, только без запахов, без этой жуткой вони, меня же сразу стошнит! Я нажгу гам ароматных палочек, не имитируйте ничего такого, прошу тебя...
- За кого ты нас принимаешь? Мы "бомжи" благородные, не шибко вонючие, но... голодные! Кстати, как там с яствами? Шампанское будет?
- Ты что, чай, соки, кофе...
- Я шучу. Короче говоря, к шести тридцати наша бомжистость станет соответствовать всем принятым Госстандартам, и думаю, заслужит самую высокую оценку международных экспертов... Ох, Люба-ня!
- Лев, я уверена, все пройдет как надо. Сколько вас там?
- Пятнадцать. В результате "естественного отбора" и конкуренции.
- Пятнадцать, - прикидывала она, - тогда, может быть, рассадить так, чтоб у него справа и слева никого не оказалось рядом.
- На то и рассчитано, Любаня.
- Ты гений, Лева. Я выйду встречать вас к шоссе, часиков в семь, хорошо?
- Думаю, да. Да, в семь нормально.
- Жду тебя, Левушка, у поворота.
- В шесть тридцать - контрольный звонок, - сказал он чужим голосом.
- О' кей.
Она поднялась к мужу.
VIII
- Олег...- Любаня смотрела как надо, - в общем, я тоже хочу быть там. Я буду смотреть за порядком, помогать Алисе... если можно.
- Можно.
- Мы с ней вдвоем вполне управимся.
- Не сомневаюсь,
- Там почти все готово. Я послала Камарика за салфетками.
- Спасибо, родная, за все. Я знаю, тебе нелегко сейчас.
- Я пойду?
- Побудь еще.
- Как ты себя чувствуешь?
- Ничего, нормально. Сядь ко мне.
- Ты выпил лекарство?
- Сядь ко мне.
Она подошла и села, и он тотчас привлек ее и положил на грудь... "Хорошо, что у нас нет детей, -думала она, - я бы точно с ума сошла". А он дышал ее волосами, целовал макушку...
- Тебе так нельзя, тяжело, - сказала она.
- Наоборот, - сказал он.
- Когда все пройдет, мы выберемся, наконец, в Сестрорецк? Ты обещал.
"Скорее бы кончился этот ужас", - подумала она.
- "Когда-все-прой дет"... - проговорил он вдруг. Она резко выпрямилась и села, глядя в упор:
- И что? Что?
- Тогда все и будет, - улыбнулся он.
- Олег!
- Их-лебедих! Не сойти мне с этого места.
- Да ну тебя... - "Показалось", - решила Люба-ня.
- Ко мне сейчас отец Афанасий придет... ты собери там чего-нибудь сладенького.
- Он что, тоже будет?
- Нет, он потом уйдет. К нему сноха приехала с внучатами, на два дня.
Любаня встала, поправляя прическу.
- Хорошо, - сказала она.
- Если народ соберется, то начинайте без меня, не ждите. Я потом уж.
- Хорошо, - она поцеловала его в лоб и вышла.
- Родная...
Батюшка пришел, заметно запыхавшись, немного расстроенный или уставший.
Олег Васильевич привстал для благословения и поцеловал его большую пухлую руку, но не отпускал ее...
- Что это Вы, голубчик, умирать надумали? Ну? - сказал ему отец Афанасий и тут же увидел, как затряслись и запрыгали плечи и что-то обильно горячее и влажное обожгло ему руку.
- Ну что Вы... ну что Вы, голубчик, - говорил он.
Олег Васильевич и сам не ожидал такого, но не мог уняться, да и не хотел теперь, от все сильнее бивших его рыданий...
"Чго за день сегодня, - подумал батюшка, - одни скорбящие".
- Ну что Вы, - он коснулся его головы - и неуверенно погладил...
IX
Григорич, придя домой, не сломался, почему-то все-таки не сломался... вдруг сильно раскашлялся и затушил окурок: "А ты еще докажи, Лев Матвеич, что это именно я собаку-то отравил... да он, поди уж, и забыл про Лабрадора этого... Хотя тебе Васильич поверит, а уж когда и Любаня узнает, она меня с дерьмом съест за любимого пса своего! Ей только дай повод, не остановишь! Тогда - прощай работа... Не пойму только, где это ты, Матвеич, собрался бомжей искать? Да ты их видел ли, милый, в кино что ль? И эта с ним заодно... Туда же. Ты собаку-го свою, Кардифа покойного, и то по сто раз на дню обтирать заставляла, нос воротила, а тут бомжаги! С ними пяти минут рядом не выстоишь! Странно. Странное дело. Что-то тут не то, не то. Ну, кого мне тут слушать? Кого? Леву? На нем пробу ставить негде, он же артист. Лева-то, арти-и-ст... устроит еще подмену какую нибудь... затейник ты наш. А что: соберет там охламонов своих, мало что ль их, проходимцев? Они могут. Это уж подлянка получится, Васильич, насмешка какая-то. Не верю я ему, Васильич, Леве твоему, что хочешь делай! Будет тебе тогда пир, с шутами гороховыми... Господи, неужто правда? Ну откуда ж он тогда возьмет их? Может, через милицию какую-нибудь знакомую? Тогда конечно... А если подмена? Я ж тогда!.."
Григорич схватил с вешалки куртку и вышел на улицу. Подошел к "Газели", оглядел ее вокруг, сел в кабину... ухмыльнулся: "И вот тебе, Лев Матвеич, соломоново решение: ты давай своих бомжей ищи, а я - своих, так-то лучше будет. Вот и наберем. Их сколько ни набери - лишних не будет, там на всех хватит. Так что, с Богом! А то совсем душа не на месте..." Он включил зажигание, вырулил сначала на параллельную улицу, а потом, без помех, на еще не освещенное шоссе, и прибавил газку... "Начнем с рынка, вроде они там всегда кучкуются, потом на станцию... а там посмотрим, там видно будет. Вот такой "лебедих", Васильич".. Ну убил я эту собаку твою, Лабрадора этого, Васильич! Я убил, я! Достала она меня, сил с ней не было никаких! А тебе, ну не мог я жаловаться, из-за Любани твоей, ты ж понимаешь. В общем, делай, что хочешь... Но бомжей я тебе доставлю, как договаривались, в лучшем виде! Ведь такое дело святое затеяно, а я в стороне! Да и кто он такой этот Лева?"
У Любани не то чтобы портилось настроение, ее раздражало то, что их с Левой гениальная затея все меньше начинает ей нравиться. Чувство мстительного удовлетворения непонятно почему убывало с каждой минутой, и потому нуждалось в постоянной подпитке наиболее кошмарными подробностями "вонючего нашествия", представлявшегося неизбежным еще пару часов назад. И теперь ей приходилось прилагать все больше усилий: "Я права, права, - твердила она. Ты права?.. Я права, я права, я права..." Она то и дело посматривала на часы в гостиной, сама разожгла камин... проходя мимо стола, взяла с вазы банан, очистила и стала есть, глядя в окно. Не замечая вкуса.
X
Олег Васильевич исповедовался, старательно припоминая все, что пряталось в нем с детских лет, все, что стыдилось когда-то вспоминаться, до последних мелких обид и оплошностей, и все боялся оставить чего-нибудь недосказанным... Отец Афанасий сидел рядом и слушал. "Господи, помилуй раба Твоего", - произносил он время от времени, но что-то мешало ему примирить в своей душе два таких странных, хотя как будто логически взаимосвязанных обстоятельства: стремление этого человека устроить во чтобы то ни стало (по какому то подозрительному обету) угощение для бездомных, и в то же время, - его непонятно откуда взявшуюся болезнь и убежденность в своей близкой кончине... Он слушал этот негромкий голос. Перед ним была насмерть испуганная душа, почуявшая приближение чего-то неведомого, окончательного и бесповоротного. А дома отца Афанасия ждали внуки, его любимые озорники, и сноха - "самая любимая доченька"...
Внизу стукнула дверь, и вслед за этим постукали и покатились вразнобой шаги, не сразу затихая и накапливаясь где-то в углу под ними. Олег Васильевич замолчал и посмотрел на батюшку. Батюшка встал и покрыл его голову епитрахилью. Олег Васильевич ощутил на затылке знакомую прохладу плотной и гладкой материи, от которой сделалось ему затаенно и мирно, и закрыл глаза. Сверху легла на голову большая рука, дыханье его оборвалось, он не успел опомниться, как все испарилось, исчезло в одно мгновенье. "Господи... это Ты... Господи? - душа забилась, как пушинка под ветром, но удержалась, удержалась таки, и страх отлетел, - Господи, это Ты!.."
XI
Любаня, встретив машины с Левой и его "бомжами", ничего кроме лишней тяжести на душе не почувствовала, войдя, она кивнула Алисе и та, ни слова не говоря, пошла на кухню.
- Все спокойно?- осведомился Лева.
- Пусть все будет, как будет, - сказала она, -только бы все это кончилось.
Поскорее!
- Что за настроения? А?- сказал он нервно, -или что-то случилось?
- Ничего не случилось, голова какая-то... давление, наверно.
Григоричу с рынком не повезло, никого он там не сыскал, наткнулся разве на пьяного в грязи мужика и бродячих собак. Но на станции, под навесом в конце платформы, обнаружил неожиданно целую группу бродяжек, - человек десять с женщинами и детьми...
Отец Афанасий ушел. А Олег Васильевич все так и лежал после причастия. Что-то творилось с ним... Самое удивительное было то, что он совершенно не чувствовал себя больным. Легкость пуха во всем теле и никаких ощущений и боли! Он резко поднялся, вскочил на ноги и засмеялся. Расставил стулья и отжался меж ними, снова чувствуя силу, и не выдержав, затряс кулаком, как счастливец, за бивший победный гол... "Ну ты, как пацан какой, Олег Васильич, не солидно", - пытался он отдышаться... посмотрел на часы:
- Пора. Уже собрались, поди.
Олег Васильевич вышел из комнаты вполне владея собой (но сердце прыгало!), стал спускаться по лестнице и тут же едва не расшибся - погасло внезапно... он пошатнулся и схватился за перила руками. "Ну вот, и свет вырубили, - догадался он, - и, как всегда, в неподходящий момент".
Любаня со свечкой молча подала ему руку, и он сошел со ступенек, сжимая ее холодные пальцы. "Пустяки. Теперь все - пустяки!" - с таким настроением вошел он в гостиную и увидел, наконец, стол и сидящих за ним людей.
Горели свечи, прерывисто, зыбко. Свет плясал по столу, по темным фигурам... Все начали привставать, двигать стульями, он останавливал их, просил садиться, здоровался, желал "приятного аппетита" и "не стесняться". Дошел до своего места и сел, и ощутил со спины блаженное тепло камина... Все было так, как он и представлял себе: гости понемногу осваивались, прилежно отхлебывали и чавкали, дымились щи и пельмени, и руки уже шарили по та-релкам, и сходу припрятывались куски... "Как хорошо, что погас свет, - подумал он, - так даже лучше". И совсем не чувствуется запаха, это от Любиных палочек, наверное, ну и отлично... Какие у них ужасные лица... Ай да Григорич, и где это ты понабрал их?"
XII
Григорич битый час уговаривал на платформе хмурых бомжей. На него смотрели, как на недоумка, хотя некоторые вроде и колебались, но всем было странно и непонятно: с какой такой радости кто-то их станет кормить-угощать, да еще одарит потом продуктами и деньгами? Григории понял, что все зависит от их "главаря" - от этой, средних лет, женщины с опухшим надменным лицом, и переключил на нее все свое красноречие:
- Ну, чего тебе бояться-то? На машине вас довезу, сами убедитесь, не понравится - привезу обратно, в любом случае привезу, всех, сколько есть, ну? Он же верующий человек, богатый, решил вот вас чем-то порадовать, помочь вам... что тут такого невероятного? Милая, да он не то что человека ни одного за всю жизнь не обидел, он... вот сама увидишь, я уж шесть лет у него, что я вру тебе? Ты ж знаешь людей-то, повидала, что я тебе маньяк что ль какой? Ну?
- Повидала! - вдруг вскинулась баба - Повидали мы как-то, так же вот пригласили: и закусь какая хошь и налили - хоть упейся, и что? Что с нами сделали-то, знаешь, потом? Я даже говорить не буду... втроем только живы выбрались: я с Фатюшей да Колька Суббота, один плащ на троих, босиком, и тут, здесь-здесь-вот, живого места нет! Повидали! Привози сюда хавку и уезжай, тогда поверю...
Время шло, Григорич срывался на крик, выдумывал гарантии, обещал, и все было без толку, вдобавок кто-то проколол ему два колеса, и после этого ему окончательно стало ясно, что с бомжами ничего с получится.
- Господи, Твоя воля, - простонал он. - Так-то, Васильич, видно не видать тебе сегодня никаких
бомжей... кроме Левиных. Хоть бы уж у него получилось с ними!..
XIII
"Какие ужасные, испорченные лица", - продолжал он разглядывать своих гостей. - Но ведь люди же. Люди. Надо обязательно одежду им подыскать... Пристроить бы их как-то. Всех, конечно, не удастся, но кого-то можно попробовать. Вот с этим точно не получится - с другого торца. Который напротив - этот конченый... жует-то как - как животное...."
Лева сидел насупившись, едва справляясь с приливами лютого бешенства. Старался не упустить ситуацию:
"А доволен-то как, ах ты, батюшки! И это все, что тебе было нужно, Олег? Да ты и впрямь дитя, уж так доволен, счастлив прямо... ну я рад за тебя. Все, как тебе и представлялось, да? Посмотри, посмотри на "несчастных бомжей", видишь, какие они на самом-то деле? Жалко их, правда? Конечно, жалко, что ж мы, не люди, что ль?! Противно смотреть на тебя, дурака юродивого. Ничего, скоро тебе будет еще лучше..."
Настораживала Леву пока одна Любаня. Она стояла в проеме окна, опершись на колонну, иногда подходила к столу, подтирала, уносила посуду, ни улыбки, ни слова, ни взгляда... "Но с другой стороны, а как ей еще вести себя? Только бы не сорвалась. Да, скажу я вам, что же здесь все-таки делается, кто бы видел, а? Жаль, камеры нет... Аркаша с Денисом классно работают, собаки, просто супер! Небось, давятся от хохота втихаря, поганцы. Гомона, гомона маловато, какие-то зажатые все..." Он дал понять это через ближних "бомжей", и мало-помалу завертелись засаленные плечи и спины, народ активнее захлюпал, застучал ложками, загомонил, стал ронять что-то на пол, подбирать, тянуться через стол, ссориться, кашлять... "Старики" ели жадно, не стесняясь, женщины же с оглядкой на окружающих и на хозяев, стараясь не терять то женское, что еще в них оставалось, но пальцы бегали неудержимо, хватая и пряча в карманы и сумки дармовую закуску. В середине стола раздалась брань и возня, но подоспевшей Любане удалось все быстро "уладить" и рассадить "драчунов" подальше. "Кто-то заскулил... и вдруг все смолкло.
Олег Васильевич встал и обратился к гостям:
- Мне хотелось сказать вам несколько слов. Вы ешьте. Я буду говорить, а вы ешьте. Одно другому не помешает. Я хочу сказать вам вот что. Мы - люди... Полчаса назад мы не знали друг друга, не были знакомы. У вас была своя ужасная, жестокая жизнь, у меня - своя. Но теперь мы сидим здесь вместе, за одним столом, и у нас теперь как бы одна с вами жизнь, по крайней мере, вот на это время. Я хочу, чтобы между нами не было различий, чтобы уже не играло роли, кто здесь каждый из нас но жизни, потому что мы - люди. Понимаете? Мы - люди, мы еще здесь, в этом мире. Мы еще в этом мире, от которого, когда мы были юны, когда он только открывался перед нами, мы ждали столько радости, столько необыкновенного, все было впереди... мы ждали счастья, мы не знали, какого именно и в чем оно заключается, но без этого, без ожидания этого, без этих мыслей, кто начинает жить? Кому захочется жить в начале жизни, если ему сказать, что у тебя не будет счастья, что всю свою жизнь ты будешь мучиться и страдать, и умрешь в болезнях, в нищете, среди других людей, которым не будет до тебя никакого дела? Кто захочет жить после этого? Кому хватит на это сил? И вот мы с вами те, которые могут сказать о себе: "Да, я пожил, я знаю, что такое бывает жизнь и как она умеет заманивать, ластиться, поворачиваться, как она умеет безжалостно бить, без остановки. Как она может доводить до отчаянья, до крайнего безразличия, до полного равнодушия к ней самой... И поэтому я могу говорить о ней правду, ибо знаю ее". И вот мы собрались здесь, как на некоторой краткой остановке, как среди поля, случайно, укрывшись под деревьями от непогоды. Вот мы - люди. И не потому, что из одного "теста", но еще потому, что все мы идем Туда. Все ближе и ближе к тому неминуемому Туда, где начинается неизвестность...
Да, мы где-то родились, росли, где-то жили, но это не имеет никакого значения, потому что мы - Туда, мы смеялись, страдали, терпели, но даже это, оказывается, не главное, потому что мы - Туда, и мы сидим сейчас вместе, мы пока еще здесь и мы, наконец-то, заговорили об этом, потому что нам - Туда. Кому-то не хочется думать об этом, кто-то находит себе другие мысли, потому что знает, что и ему, все равно - Туда. Туда... Мы те, которым - Туда. Так вот я и думаю: что для нас все-таки главное? То, что было? То, что есть? Или то, что будет? Я верующий, и поэтому знаю, что есть Господь. Правда, знаю. Я хочу вам сказать, что среди вас есть те, которые не верят, что существует другая жизнь, и я знаю, что они думают, потому что я тоже так думал; что если умру, то меня просто не будет... и ничего не будет - ни радости, ни боли, а просто пустота - бесконечная и мертвая. Как пузыри на лужах во время ливня - появляются и лопаются. Но мы не пузыри. Не думайте так. Так хочется думать оттого, что нам страшно...
Лева был вне себя: "Сейчас, сейчас, - говорил он себе, - пропади все пропадом, я встану, хватит с меня!"
Любаня дважды ходила мыть руки, никак не могла отделаться от чувства брезгливости и омерзения, но уйти было нельзя. "Скоро все кончится, скоро все кончится..." это было единственное, что удерживало ее от истерики...
- Именно оттого, что страшно, - повторил Олег. - Мы разные: мы добрые, мы ленивые, гадкие, всякие, но мы - бессмертны, Я хочу сказать, что мы не чужие, я хочу сказать, что кроме нас, у Него никого больше нет, мы одни у Бога - вот такие, какие есть, других нет... все мы Его, до единого, понимаете? Мы говорим: "Если б Он был, разве нам было б так плохо? Разве мы могли быть тогда плохими? Да лучше нас никого бы и не было!" Но лучше нас у Бога и нет никого, - мы самые лучшие, самые дорогие и есть для Него! Только мы не хотим быть Его. Мы хотим, чтобы Он был наш, а мы - сами по себе, как нам вздумается. Но Ему больно, понимаете? Он - Отец, Он все это устроил, все нам отдал. Ему очень больно... А нам лучше? Нам что - хорошо без Него? Нам больно, мы злимся, и вот протягивается Отцовская рука, и мы каждый раз кусаем ее, никого не хотим иметь над собой! И продолжаем выть от боли, от страха...
У меня был такой случай: пригласили в гости. Дом старинный, престижный, хозяева - под стать ... Не просто так пригласили, конечно. Ну, посидели-потолковали, все хорошо, прощаюсь, подхожу к лифту - занят. А что, думаю, пятый этаж всего, прогуляюсь - не в "горку" же, а с "горки". Спускаюсь, слышу плач: этажом ниже открытый лифт, и в нем два малыша - один совсем кроха, годика три, другой чуть старше. Ревут - заблудились: только-только переехали в этот дом и забыли какой этаж, вернее, на какую кнопку мама велела нажать, вот и катаются после гулянья ... И все им незнакомое кажется, не узнают этажа своего и все тут. Что с ними делать, не бросать же их в горе таком? А ведь горе, подлинное горе великое, для них-то: отца с матерью потерять! в дом родной не попасть! "Ладно, - говорю, - сейчас найдем вашу квартиру". Вы бы видели, как они поверили в меня! Как потянулись, с какой надеждой! Особенно малыш - тот вцепился в брюки кулачками, не отдерешь. Вот я для них бог был, настоящий спаситель, понимаете? Ну, стали ездить, ходить, вверх-вниз, звонить-стучаться... А в девять этажей домина! Наконец, нашли: на том же пятом этаже, представляете? Сдал я их мамаше, с рук на руки... Вот, я сейчас вижу себя в них - в этих малышах, ведь мы забыли, где дом наш, забыли! И если еще не плачем, то скоро, скоро завопим - вспомнит душа, да вот найдем ли проводника, успеем ли?.. Наш дом Там, у Отца, понимаете? На земле ничего не найдем. Будем стоять и плакать, как дети, и всего только два пути у нас: либо вверх либо вниз... Я хочу, чтобы была у нас Радость, потом, когда мы уйдем отсюда... Я хочу, чтобы мы опять собрались, но в Том, Отчем Доме, никого не потеряв..."Всяк человек загадка", но кто бы вы ни были, я люблю вас. Вы пришли в мой дом, я действительно рад вам, рад, что между нами нет ни лжи, ни зла, ни вражды... все равно...
Лева чувствовал, как уходит земля, как цепенеют ноги и мышцы... "Остановись, Олег! Идиот, я сойду с ума! Остановите его!!.."
В саду полоснуло дождем, ветер поднял несколько листьев и бросил в окна.
Олег устало улыбнулся и сел. Так он сидел с минуту, с опущенной головой, ему не хотелось... он боялся посмотреть туда - прямо перед собой, на другой конец стола. Он все-таки поднял глаза и увидел Леву...
Никто не ел, все сидели и ждали чего-то. Олег почувствовал, как кто-то с силой сдавил его сердце, как тельце синички, которое сжимал он в детстве, невыносимо: "Господи... не наказывай их, они как и я. Такие же, как и я... Господи, зачем все так глупо!.. Господи..."
Первая не выдержала Любаня. Лева видел, как она направилась к мужу, как стояла над ним, склонившись... Его разбирал смех. Необъяснимый безудержный смех... Он громко прыснул и закатился в беззвучном хохоте, глядя сквозь наплывающие слезы на Любу, уже идущую к нему. Он даже знал, что она сейчас скажет. Он ждал от нее этих слов…
Она подошла и сказала:
- Лева, он умер.
XIV
Барсик лежал на подоконнике. Он дергал ушами в сторону непонятных шорохов с улицы и давно уже понуждал себя встать и разобраться с этим вопросом, но не мог перебороть в себе послеобеденной лени, наконец, он поднялся, подкрался к краю и мягко спрыгнул в палисадник.
- И еще по одной, а? Не откажите, - обратился к благочинному отец Афанасий.
Он подлил в его чашку вишневого цвета заварки, поднес ее к самовару, открыл крантик, заполнил ее кипящей струйкой до золотистого ободочка, и снова поставил перед ним на блюдечко, придвинувши к нему заодно и вазочку с пышным домашним печеньем... Было душно, как бывает перед грозою, в открытые окна медленно заплывал тополиный пух.
- Видите ли Вы этого человека, - показал на кого-то, стоящего среди богомольцев, отец Афанасий, - это наш Левушка, удивительный нищий! Психически не здоров - дурачок, но все любят его. Благостная душа! С ним у меня связано одно драгоценное воспоминание. Необыкновенное, скажу я вам. Каких-нибудь полминуты всего, но каких! Четыре года назад довелось мне быть в доме своего прихожанина. Позвонил, а ко мне, помню, как раз вот Танюшка с внучатами приехали, ну делать нечего, беру Святые Дары... Заболел, знаете ли, вдруг (благочестивый человек был, из "новых"), с утра еще здоров был, и вот, все в один день, упокой его душу, Господи. Причастил, конечно, спускаюсь вниз (там у них гостиная была) и застываю, знаете, прямо перед Евангельской картиной, помните от Луки: "Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых..." - вот все точно так. Стою я и вижу прекрасно убранную комнату, ковры, горящие свечи, блеск стола и страшных, ужасных каких-то нищих, сидящих за ним, - поразительное зрелище! И все они, как в той самой притче, собраны по воле хозяина дома, которого я только что исповедовал, дело, согласитесь, исключительное в наши дни, не так это просто, если подумать. И вот стою пораженный, а ближе всех ко мне, как раз-то и оказался Левушка наш (вот это и было мое первое знакомство с ним, и надо сказать уже тогда его болезнь довольно-таки заметна была), повернулся ко мне своей чудной улыбкой и смеется, смеется так озорно, и еще какие-то двое с ним, потом говорит: "Благослови, отче!" и тут все, как один, за ним: "Благословите! Благословите!" - кричат, повскакивали с мест, а Левушка, тот - бух на коленки и в ноги, да-а... Никогда не забуду. Всем, знаете ли, рассказываю, сподобился, можно сказать, видеть воплощенное Евангелие. Истинно!
- Да, интересный человек, даже как будто знакомый на лицо, - сказал отец Иоанн, глядя в окно, - видно, не без таланта был когда-то.
- А ведь Вы угадали, знаете ли, был, говорят, он артистом каким-то, на радио что ли, или на телевиденьи, точно не могу сказать, не знаю, но что-то такое... Да видно на этой почве и стронулся, ведь там нечестивое творят всякое, вот и плоды... в общем, обычный финал в наше время, - вздохнул отец Афанасий, - сам-то он ничего не рассказывает. Поговаривают, что его отстранили от эфира за то, что смеяться стал: как закатится, говорят, слова сказать не может, - хохочет, свихнулся в общем, жена ушла... Потом, говорят, с каким-то монахом ходил, даже на Кавказе был, в горах, что ли, жил. Не знаю уж... Потом побирался где-то на автозаправках, обижали его... ну и вот к нам прибился, с полгода как. Да он тихий. Больше всего петь любит, голос-то у него - ах какой голос! Бог даст, услышите. Вот только батюшки, знаю, жалуются, что он в церкви воспоет, не с хором, конечно. Не желаете его послушать поближе, мы заодно и угостили б его, с праздничком?
- Не знаю, удобно ли.
- Лева! Левушка-а! - крикнул отец Афанасий. Левушка, услыхав, что его зовут, тотчас обернулся и, широко улыбаясь, поспешил к окну.
- Только Бога ради, не выпытывайте у него про тот пир, что я Вам рассказывал, все равно ничего не добьетесь, начнет плакать и больше ничего.
- Да я, собственно, и не собирался этого делать, - сказал благочинный, пожимая плечами.
Скоро показалось в окне загорелое, не без какой-то особой приятности, лицо Левушки, сквозь спутанные с проседью волосы, блестели черные, необычайно удивленные его глаза.
Батюшка набрал со стола пряников, конфет с печеньем, и стал накладывать ему в скрещенные руки.
- Возьми-ка, дорогой, с праздничком. Покушай...
- Спаси Го-осподи лю-у-ди-и Твоя-а.., - затянул Левушка неожиданно красивым и густым баритоном.
Получивши благословение, он ответил им низким поклоном, да так и пошел восвояси, распевая и кланяясь на ходу всем встречным.
- Да, голос хорош, в самом деле, - признал отец Иоанн, провожая Левушкину спину, пропадающую в акациях, уже едва различимую в их сиренево-дымной тени.
А отец Афанасий стоял, поглядывая на своего гостя и улыбаясь с чрезвычайно довольным видом.
Еще слышалось, еще долетало до слуха пение, уходящее одноэтажными улочками пригородного квартала, куда-то вниз, к дороге между холмами, по которой выходит неторопливо через городские ворота и поднимается по каменистой, выбеленной солнцем земле небольшая толпа, мелькая пестротою одежд и оживленно жестикулируя - следом за Ним, за все еще видимым впереди
Человеком...
Малаховка, Декабрь 2000
* Евангелие от Луки, 14 гл., 75 стих.
ВОЗНЕСЕНИЕ
Рассказ
Он стоял как всегда справа от аналоя, у большого расписного распятия, за которым голосил и переругивался их неизменный деревенский хор, причиняя слуху невыносимые муки. Начинали они еще более-менее сносно, но потом бабка Варвара властно уманивала бабу Таню и бабу Веру в свою заунывную колею и уводила в такие извилистые переливы, в такие страдательные окончания, что хоть святых выноси, ей-Богу! Сегодня ее особенно заносило, и баба Таня пыталась как-то перетянуть на свое, но куда там. И несколько раз было слышно, как сноровистый батюшка, подбегая к ним, бранил ее без подобающей сдержанности, на что бабка Варвара отвечала, что сегодня "не хватает духа", чему в свою очередь отец Сергий не придумал, чем возразить, и больше уж не подходил к ним до конца Литургии, видно, махнув на нее рукой...
Капитан смотрел на иконостас. На месте его висел когда-то латаный-перелатаный экран сельского клуба, глядя на который из темноты, пропахшей детскими их одежонками, обмирали они от стоявших перед ними "Кащея Бессмертного" и "Фантомаса", и как, бывало, бились сердца их за "наших" разведчиков и солдат, падавших к ним в разрывах и комьях земли, и какая стояла тишина в этих стенах, когда поминали тут летчиков из первой поющей эскадрильи", и как вскакивали они со скамеек, как орали от восторга, когда влетал сюда крылатый Чапаев и Александр Невский, с гусарами и ковбоями! О. сколько крови дымилось здесь, сколько свалено трупов и тел! Сколько было огня и пыли! обжигающей белой пустыни! сколько штормов! сколько индийской любви!.. Вспомнилось, как рыдали они над Гаврошем и над Мухтаром, как расплывались от мокрых глаз умиравшие тут Ромео с Джульеттой, и конечно, "Генералы песчаных карьеров"... и сочились из этой тьмы тысячи мерцающих детских слез... Но были, правда, и другие слезы - от удушающего, заливистого гогота, до стона и колик, и ржа ли от комедий так, что дрожали старые побитые стекла и где-то под куполом начинался гул...
Что они делают здесь? Сейчас? Глядя теперь на этот резной цветастый иконостас, - взрослые, пожилые, с побитыми судьбами люди, выросшие из тех деревенских пацанов и девчонок? На что они смотрят тут? На Спаса? На Богородицу? На Царские врата? Зачем? Что им тут надо? Слушать это жалкое пение? А что же тогда? Что еще? Зачем они здесь стоят, согнувшись под терпким дымом кадила? Молятся?..
Вот бабка Варвара, живет одна, любительница советы давать да поговорить, ей только попадись, не отвяжешься. Сейчас потащится к себе да начнет по соседкам ходить, рассказывать, кто как пел сегодня, да как отец Сергий ругался. Вот стоят с ней баба Таня с бабой Верой, неразлучные, как две ивы в пруду, обеих мужья лупили по пьяни, да оба и померли. Сериалы вместе смотрят, одна у другой, а на свадьбах частушки поют хулиганские. Скоро завезут им внуков на лето, начнут бегать за ними по дискотекам... Или вот Власиха стоит "крутой Уокер", деда своего и зятя держит как в цирке - на задних лапках ходят, вон, стоят за нею, не шелохнутся. Сама на джипе ездит, курила, как самовар... сейчас вроде бросила, шпана, и та от нее шарахается - ненормальная! Вон Анатолий стоит в углу, три года назад жену убил, говорят не нарочно... как напьется, идет к ней на могилку, "помирать", зимой чуть не замерз, да вовремя спохватились. Кто там еще? Катерина в брюках стоит, муж наркоман, от чужого мужика родила, да еще племянницу к себе взяла, туберкулезную, козьим молоком отпаивает. Похоже, опять беременная. Вот дядь Паша, отсидел свое, приехал к матери погостить, да так и остался. Жену бросил, на местной женился. Сын приезжал с дружками, избили его до полусмерти. Да кого ни возьми: тот больной, тот чудной, тот измаянный... Калека на калеке... Бабки ходят, огарки гасят на свещнице, свечки переставляют - придут домой, станут косточки перемывать.
Все разойдутся по грехам своим, до следующей службы, придут и опять будут стоять и кланяться...
Так что им тут надо всем? Тут храм Божий. Тут Небо на земле! А кто на этом Небе стоит-то? Бабки Варвары, да Власихи, да Анатолии с Катеринами?.. Что они делают тут? Кто они? Может быть, они христиане? Может быть, они идут за Господом? Радуются? По-своему, как умеют, где-то непроглядно глубоко, внутри... совсем крохотно радуются, несмотря ни на что, о Нем? Ковы ляя и падая и разбиваясь? Пытаются карабкать ся, ломая ногти?.. Может, они и жизнь за Него отдадут? Бабка Варвара, отдаст? Неужели отдаст? И пойдет на смерть и на муку? И дядь Паша? И баба Таня с бабой Верой? И Катерина?
Вот это-то и странно. Ведь им ничего не ясно, ничто не открыто, не явлено, не гарантировано! Вот что непонятно мне. Необъяснимо.
Кто-то икнул, кто-то вышел... Нет, люди как люди. Притворяются...
Ну где ж тут Небо, Господи? Не чувствуется, хоть убей! Все стоят, все - грешные, и ничего больше нет!
Наконец настала пора "Символа веры", который, как, впрочем, и "Отче наш", все односельчане пели строго за голосом капитана. Это были его минуты. Виктор пел размеренно и громко, и все держались за ним, не вылезая и не обгоняя его, как караван за своим ледоколом. Побаивались. Но сегодня и он запнулся в середине "Сим вола" и перепутал слова, а в "Отче наш" вместо "лукавого" почему-то пропел "лукававо", и расстроился окончательно.
После службы народ, бестолково толкаясь, ринулся целовать крест и руку священника, и Виктор еле сдержался, чтобы не двинуть кому-нибудь локтем. На душе было пусто и гадко.
Выйдя из храма, все увидели стоящую у самых дверей черную "Волгу" и несколько дорогих иномарок, а за ними и новоизбранного главу района, в окружении чем-то похожих на него людей. Виктор обошел машину и остановился. Он видел, как послали за священником, но тот вышел не сразу, и глава района нетерпеливо оборачивался, глядя на паперть, и те, которые были с ним, тоже поворачивались в ту же сторону. Батюшка вы шел, поправил крест и деловито направился к ожидающим. А Виктор, нагнувшись к водителю, сказал ему, чтобы отъехал подальше, но водитель не пошевелился. И капитан решил не усугублять неприятностей, перекрестился с поклоном храму и пошел домой.
Глава района, показывая округу, поводил руками и корпусом, и все похожие на него, тоже, как один, поводили своими корпусами вслед за ним и кивали улыбающимся и розовыми головами.
- А?! - ликующе вскрикнул глава района. - Каков пейзаж! Что я говорил? Смотрите, какие у меня места тут! Какое небо! Какие дали отсюда! Посмотрите мои поля... А роща, а? Куинджи! А луг? А река? А храм? Шестнадцатый век! - он кинул взгляд на деревню, -...и народ неплохой, так что...
- Да-а, - гудели солидно вокруг него, - повезло, Виталий Никитич, красотища...
Дальше Виктор слушать не стал. Он с ходу развернулся и шагнул прямо к ним. Отец Сергий рванулся остановить его, но было поздно, капитан стоял уже вплотную к телу главы района, ухватив его левой рукой за лацкан распахнутого пиджака, а указательным пальцем правой, твердым, как ствол нагана, размеренно стучал в это тело, приговаривая:
- Храм - не твой! Небо - не твое! Поля - не твои! Роща - не твоя! Речка - не твоя! И народ - не твой, понял? И пиджак на тебе - не твой, и штаны на тебе - не твои!.. Нету тут твоего!
Батюшке удалось-таки оттащить его от главы и увести от греха подальше с пригорка, вниз, через дядь Пашин прогон, к остановке.
Дальше Виктор пошел один, не оборачиваясь и матерясь на себя и на все земное начальство...
Дома ждал его завтрак. Он умылся и сел за стол. Жена поставила перед ним яичницу и картошку.
- Достань-ка мне это... - сказал он.
Она открыла холодильник и достала бутылку.
Он вздохнул, налил полный стакан и выпил.
- Почему с "херувимской" ушла? - спросил он.
Прихватило что то, - поморщилась она.
- Опять?
- Отпустило уж маленько. Пройдет.
Аппетита не было, он тыкал вилкой в яичницу. Шрам на щеке вздулся и покраснел.
Она смотрела на него.
И он не выдержал, рассказал ей про все, что было у церкви.
- Отец, ну что с тобой? - сказала она, улыбнувшись. - Тебе отпуск нужен, ей-Богу.
- Да при чем тут отпуск!
- Да при том. Ну что он такого сказал? И мы также говорим: моя деревня, мой дом, моя страна... Ну? В отпуск тебе надо, отец, отдохнуть, а то ты совсем там чокнешься со своими бандитами.
Он отодвинул тарелку.
- Вот смотри, Ален, сколько уж лет вместе живем, а не чувствуешь ты меня... нет.
Она убрала со стола, стала мыть посуду. Он допивал чай.
- Хоть бы Андрюшка приехал со своей Оксанкой, - сказала она, - к речке сходили б.
Виктор смотрел в окно, и ничего там его не привлекало. Абсолютно.
- Отец, пойдем к речке сходим? Я приберусь только.
Виктор встал, постоял с минуту и направился к двери.
- К обеду-то придешь? - спросила она. Он как-то дернул головой и вышел.
И ушел он за Ильинский Погост, куда ходили с матерью за земляникой, а оттуда в Зубовский лес, где в затхлых и темных землянках обжимали с парнями девчонок, а лес почти весь в завалах, после прошлогоднего урагана, корневища торчат медведями, и грибов тут, похоже, не будет.. Потом гороховым полем дошел до Каменки, совсем обмелевшей, и увидел байдарочников и палатки с навесом, а в детстве ловили тут раков и жгли костры, пугая друг друга страшными историями про утопленников...
Виктор чувствовал, что тяжесть все еще остается в душе, хотя уже не давит так сильно. Поднялся к кладбищу и нашел два родимых холмика, матери и отца. Он огляделся и лег между ними на спину и закрыл глаза. И подумалось ему, что если вот умереть, то в рай ему сейчас не попасть, это уж как пить дать, а значит, не увидит он и никогда не встретит больше ни матери, ни отца... никогда, никогда... И они там тоже не дождутся его, никогда. Может, смотрят на него оттуда и плачут. Но в раю же не плачут, там радуются. Значит, они смотрят на него и радуются? Нет, это абсурдно, бесчеловечно...
- Помогите мне, - сказал он, - один я...
Холмики молчали. В ложбинке было прохладно, он чувствовал лопатками влажную мякоть травы, и впервые - эту ровную покатость земли, планеты...
Он открыл глаза и увидел синее-синее небо. Расслышал жаворонка...
Как будто захотелось домой... К Алене... Он знал, что сейчас там тихо и убрано, всё на месте. Неужели это все, что нужно ему? Неужели он настолько прост, что просто... понимающее прикосновение жены и взгляд, и голос?.. Неужели вот в этом Бог? Да нет, конечно! Бог, Он должен быть в другом, совсем в другом... то же самое мог бы чувствовать и неверующий.
- Господи, если мы верим и молимся, то где же Ты? Так чтоб мы почувствовали Тебя, хоть чуть-чуть? Должна же быть разница между ними и нами! Я не прошу у Тебя знамений и ангелов, мне бы только хоть раз узнать, ощутить: как это, - то что Ты с нами?.. Где Ты?
Он еще подождал немного, но ничего не случилось.
Тогда он поднялся и усмехнулся. Решил сходить к роднику. Там было тенисто и тихо. Прозрачнейшие струи выбивались из каменистой земли, бесшумно сплетаясь друг с другом, переполняли неглубокую выемку и превращались в ручей, стекавший в заросли ивняка и осоки. Виктор встал на мостки, расстегивая пуговицы рубашки.
Все затмилось единственным неодолимым желанием: скорее черпнуть ладонями студеной водицы, охладить, освежить горящее от солнца и крови лицо, окатить прохладой саднившие от травы и сухого ветра руки и грудь, и напиться, напиться досыта, до ледяного горла, и он уже нагнулся за этим... как вдруг почувствовал, ощутил всем затылком чей-то настойчивый просящий взгляд, обращенный именно к нему, и вместе с тем, как будто, тихий, приветливый смех. Виктор разогнулся и, обернувшись, заметил наверху Алену. Она стояла в прогале березовой рощи, у самого высокого спуска к ручью, стояла и смотрела на него, спокойно опустив руки. Ветер качал березами, обдувал на взгорке траву, но казалось, что ни одна складка не дрожит на ее легком платье, ни одна прядь волос на ее внимательном, чуть удивленном лице. Он видел всю ее фигурку, одинокую светлую фигурку на лесном ветру, не помнящую ничего вокруг, кроме ...
- Это жена моя, - произнес он, вглядываясь в нее.
Но от этих слов, сказанных вполне бессознательно, сжалась душа его. Непонятно почему. Сжалась и все.
Он сделал два шага навстречу и остановился, не сводя с нее глаз.
"Почему она не улыбнется, не прищуривается, как всегда?.. Что-то, видно, случилось".
- Ален, это ты?
Он пошел к ней, взбираясь на взгорку, и в душе его не было ничего, кроме испуганного немого предчувствия.
Когда он наконец встал рядом, она все так же смотрела в него, так же легко и внимательно, и неподвижно, как обычно смотрят в себя.
- Ты чего? спросил он.
- Искала тебя, - ответила она.
- Чего меня искать... - выдохнул он и понял, что ничего страшного не случилось, что пойдут они сейчас обедать, и все, что бурлило в нем, куда-то ушло.
- Пойдем, - она взяла его руку за тяжелые пальцы и пошла, потянув за собой, на шаг впереди него. И он пошел за ней, впервые так послушно и просто, и не знал, откуда это.
- А чего смеялась? - спросил он.
- Я звала тебя, а ты не слышал, - ответила.
Они дошли до развилки, впереди было поле, зеленеющее по пашне частыми, узкими полоска ми; по другую сторону, за оврагом, уже стали показываться огороды. Мелькнул и дом их оранжевой крышей.
- Мы пойдем на Горку, - сказала она как можно спокойнее.
И они повернули на поле, в середине которого, рассекая его на две части, возвышалась Колова Горка.
Вот теперь он знал, куда они идут и зачем. И был он поражен этим, и смотрел теперь на нее и не мог поверить, смотрел, боясь за нее, и понимал, что не остановит ее, даже если бы захотел. И она, не оборачиваясь, смотрела на него, помогая ему не говорить ни нужного, ни лишнего, ничего…
В тот день, когда умер их первый и последний малыш (недоношенная кроха, трупик, который затаскали по лабораториям, не осталось ни фотокарточки, ни могилки), он, обегавший в поисках жены всю округу, нашел ее только здесь, уже в сумерках, по дрожавшему слабому облачку на вершине - вцепившуюся насмерть в траву с пустыми, смотрящими в тучи глазами. Отбивалась, не хотела никуда уходить. Он принес сюда телогрейки, одеяла, спирт, какую-то клеенку, соседи дали таблетки... Ночевали здесь же, под дождем. С того дня и посыпалось у нее: воспаление, больница, осложнение, заражение, операция, потом опять что-то "по-женски", еще две операции и приговор: детей больше не будет. На эту Горку смотреть не мог, взорвать хотел. Долго еще рана эта катала их, перекатывала... Потом вроде ничего, послал им Господь Андрюшку, племянника, на воспитание, ужились, срослись вместе, вместо сына был.
Пришли.
На то самое место поднялись. Видит он: на траве полотенце, бутылка вина, пирожки, миска с салатом... Повернулась к нему и растерялась:
- Ох, волнуюсь, отец... погоди. Сегодня... сегодня…
"Ну невозможно смотреть на все это!"
- Ален, ну зачем ты... ну помянули бы дома, ну? Ну с чего ты вдруг, столько лет уж...
Он обнял, прижал ее к себе, окружая, загораживая собой, отнимая от горя, от смерти, от ужаса...
- Не надо, Ален... Не надо, девочка.
- Да нет же, отец, не то! - она неожиданно сильно прижалась к нему. - Вить, я... у нас...
Виктор почувствовал, как земля уходит у них из-под ног, как глаза его больше не видят ни поля, ни рощи, ни крыш, ни неба, но один лишь свет, огромный, объявший, поющий под ветром, свет!..
- Понимаешь? - прошептала она где-то в его груди.
Конечно, он хотел ответить, сказать и крикнуть, но было нечем! Что-то в горле такое, отчего даже кивнуть толком не удается.
- Понимаешь? - шепнул ему ветер.
- Понимаешь?
- Понимаешь?..
БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ. Повесть-сказка. (Начало)
– Вовик, ко мне!
– Вовик! Ко мне, быстрее!
– Вовик, к ноге!
Вовик – четырехлетний малыш – бегал на четвереньках по осенней детской площадке, усердно выполняя команды двух третьеклассников, в этот раз – "инструкторов по обучению собак".
– Вовик, сидеть! Взять!
Димка размахнулся и бросил палку в кусты.
– Ищи, ищи. Так, хорошо!
Тут Вовик не стерпел и, встав, побежал к "хозяину" с палкой во рту.
– Э нет, так мы не договаривались. Давай по новой. По-собачьи, понял?
Опять палка летит в кусты. И на сей раз все сделано "классно". Правда, малыш здорово запыхался, но...
– Леха, ты глянь на морду его. Ну точно, как у моего Джека! Молодец, Вовик!
– Собаку надо поощрять, – подойдя, сказал Леха и, присев, похлопал способного "щенка" по спине.
– А чего ему дать-то, "Педигри", что ли?
И оба приятеля покатились со смеху.
Даша вышла во двор и огляделась. Подружки, которые только что дожидались ее под окнами, когда она, торопясь, доедала суп, куда-то исчезли. В пространстве между двумя пятиэтажками, заросшем вдоль тротуаров деревьями и кустами, с песочницей посередине, сломанными качелями и одинокой скамейкой, прогуливались мамаши с колясками, стояли группами бабушки, гоготали ребята из соседнего класса, но никого из подружек видно не было. "Ведь мы же договаривались, – с возмущением подумала Даша. – Ну как после этого дружить с ними?! Где прикажете их искать?!"
Настроение портилось. И чего они ржут на весь двор? Она с раздражением посмотрела на Димку и Леху. Ну конечно, опять над этим дурачком издеваются. Может, они знают, куда девались девчонки? Подходя к ним, Даша увидела, как Димка достал из джинсов две жвачки, развернул обертки, дал один кубик Лехе, другой кинул в рот и, посмотрев на Вовика, сглотнувшего слюну, сказал:
– Леха, смотри, сейчас прикол будет. Вовик, ты сегодня классно отработал, да? Поэтому тебе полагается зарплата...
– Он же собака, ты чего? – заржал Леха.
– Погоди ты, смотри, что будет. Он уже не собачка, он работал собачкой, да, Вовик?
Вовик с надеждой и верой глядел на Димку.
– И вот, – Димка разгладил обертки и вкладыши от жвачек. – За эти труды тебе полагается... Слушай, Вовик, это же огромные деньги! Это же баксы, понимаешь? Доллары!
Вовик кивнул.
– Понимает он, – опять заржал Леха.
– На, держи, – Димка шлепнул по чумазой ладошке цветными фантиками.
Ладошка тут же сжалась в кулачок, а кулачок тут же спрятался за спину. Теперь Вовик боялся только одного: как бы они не передумали и не отняли бы такое богатство!
– Ой, чего-то ты слишком много отвалил ему. Погорячился ты, Димон, точняк, – посочувствовал приятелю Леха.
– Пасиба, пасиба, – шептал малыш, мелко кланяясь и пятясь от своих благодетелей. Ему так хотелось улизнуть от них поскорее и где-нибудь в укромном месте рассмотреть свои заработанные бумажки внимательно и не спеша, как делал он всякий раз, когда ему попадалось что-нибудь особенно ценное.
– Смотри, сейчас всем бабкам начнет хвастать своими "баксами" и говорить, что он на них купит, – лениво жуя, сказал Димка.
Это была чистая правда. Вовик бы так и сделал, рассказывая всем, кому только можно, что у него теперь тоже есть деньги, настоящие доллары, и что он может пойти и купить телевизор, и мороженое, и "козаную" куртку для мамы, и покататься на автобусе... Но тут подошла Даша.
– Чего вы его опять обманываете?!
– Кто, мы обманываем? Вовик, мы тебя обманываем?! – заорал Димка.
– Дураки ненормальные! – закричала Даша.
Маленький Вовик смотрел снизу то на Дашу, то на Диму, и маленькое его сердце сжималось в предчувствии неотвратимой беды.
– Все, раз мы обманываем, отдавай наши деньги, Вовик!
– Отдай им, – приказала Даша.– Пусть сами на них покупают!
– Не-а, ни за что не отдаст, – сказал Леха и сплюнул. – Правильно, Вовик, держи их крепче, они самые настоящие!
Вовик тихонько пятился, не забывая благодарно кивать головою.
– Вот так блин сделаешь человеку добро, так ты же еще и виноват, – сказал Димка, озираясь по сторонам. Их яростные крики привлекли внимание бабушек, и те уже стали подтягиваться к месту событий.
Вовик понимал сейчас только одно: надо бежать. Так все прекрасно складывалось, такая неожиданная удача свалилась на него, а тут пришла эта Даша и почему-то хочет, чтобы он отдал свои деньги назад. И он побежал, он бросился наутек так быстро, как только позволяли ему его короткие ножки.
– Он же всем верит! – вдруг неожиданно для себя выкрикнула Даша.
– Эт точно. Одно слово – "чудо природы", – изрек благополучный и успевающий по всем предметам Димка.
– Сваливаем отсюда, а то вон "пингвины" окружают, – сострил Леха, далеко не успевающий в школе, но зато еще более благополучный.
"Чудо природы" действительно всем и всему верил, и это было странно, даже учитывая его слабоумие, но самое удивительное в нем было то, что он не умел обижаться. Его-то самого обижали довольно часто, бивала нередко и мать, которую, правда, никто и никогда не видел, и он плакал так же, как и все дети, от боли и несправедливости, но стоило обидчику позвать его – и он тут же, с невысохшими еще глазами, подходил и охотно делал все, что ему ни прикажут.
Росточка он был маленького, и на вид ему было никак не больше трех лет. Он старался улыбаться всегда, даже когда его ругали. Может быть, оттого, что иногда не понимал, за что на него сердятся, и улыбка как бы извиняла его недогадливость и глуповатость.
Это маленькое существо больше всего на свете боялось оказаться причиной чьего-либо неудовольствия. Он жил полевым цветком, который можно было обидеть и даже растоптать, но который так и останется цветком, и ничем иным. Где он жил и с кем, никто толком не знал, его могли не видеть, и не вспоминать о нем несколько дней, как вдруг он опять появлялся откуда-то во дворе. И когда темнело и все расходились по домам, никому не приходило в голову, куда же пойдет он, не заблудится ли, не случится ли с ним какой беды. И одет он был обычно в одно и то же: потрепанные клечатые штаны и такая же видавшая виды куртка.
А сейчас он бежал от девочки Даши, спасая свое богатство, не чуя ни ног, ни дороги. Что касается Даши, то она, похоже, нашла себе дело и собиралась довести его до конца. Поэтому, бросив ругаться с ребятами, Даша кинулась догонять Вовика. Она нагнала его на самом повороте дорожки, уходящей за дом.
– Да стой же, – Даша наконец схватила беглеца за руку. – Ты пойми, ведь это просто бумажки. Бумажки, фантики! И никакие это не деньги, – горячилась Даша. – Ты дурачок, понимаешь? Тебя обманули, а ты и рад. Дай сюда! Ну дай же...
Вовик понимал. Он старался, он все понимал, он не понимал только, зачем эта девочка, с силой разжав его кулачок, забрала его денежки и теперь уходила от него, унося с собой самые яркие, самые дорогие мечты.
– Атдай, атдай маи денески! – повторял в отчаянии Вовик, семеня следом за Дашей.
– Не отдам! – Даша резко обернулась и увидела вдруг испуганно заморгавшие глаза, полные слез и горя. Вовик боялся заплакать и еще больше рассердить эту сердитую девочку. Но он не мог, по всем законам детской природы он не мог не заплакать... Он замотал головой, он попытался даже улыбнуться, но горе все-таки было слишком велико. Мир рушился на глазах. Даша смотрела на поднятое к ней лицо с дорожками слез, которое изо всех сил старалось принять послушное выражение, старалось хоть как-нибудь угодить ей. Только бы она, только бы она...
– Ну что мне с тобой делать? Ненормальный какой-то!
Между тем раздражение ее куда-то исчезало, испарялось, рассеивалось... Она посмотрела на бумажный комочек в своей руке.
– Давай знаешь, как сделаем? Ведь ты хотел купить себе мороженое?
Вовик внимал Даше так, как внимает погибающий в своей последней надежде.
– Хотел, – сказала за него Даша. – И я тоже хочу мороженое. Держи свои денежки...
Вовик боялся поверить.
– Клади в кармашек. Так. И жди меня здесь. Ты понял? Я сейчас возьму свои деньги, и мы вместе пойдем за мороженым. Хорошо? Никуда не уходи.
Даша могла б и не сомневаться, Вовик такой человек, что, если его попросят, будет ждать сколько нужно. Тем более сейчас, когда жизнь вновь обретала смысл и вновь была полна радужных планов!
Спустя несколько минут они уже шли по направлению к "Универсаму".
Подойдя к продавщице, Даша повернулась к Вовику:
– Давай свою денежку.
Вовик вынул аккуратно сложенные бумажки. Торопясь, он перебирал фантики, ронял и подбирал их и, наконец, протянул ей пахнущий жевачкой вкладыш с размытой картинкой какого-то гоночного автомобиля.
– А теперь выбирай, какое ты хочешь.
Вовик вопросительно посмотрел на Дашу.
– Я тебе советую вот это, – Даша показала на картинку.
Да ел ли он когда-нибудь мороженое? И что он, спрашивается, мог выбрать, когда любое мороженое было для него самое заветное и самое лучшее на свете. Даша заплатила за два стаканчика, а вкладыш незаметно выбросила в урну, когда они выходили на улицу.
То, с каким наслаждением Вовик уплетал свое мороженое, описанию не поддается...
Они шли по улице. Мимо проносились машины, их огибали прохожие, проходили облака и тучи, раскачивались тополя. Их обносило пылью и листьями, шмыгали собаки и кошки, но никто в целом мире не мог помешать им идти, они шли своим невидимым коридором... Они останавливались, наклонялись, что-то рассматривали, шли дальше. И опять останавливались, чтобы обсудить весьма непростые вещи...
Оказывалось, что этот Вовик, несмотря на то, что был дурачком, много чего знал и умел в своей жизни. Например, он знал, что думает ворона, мимо которой они только что проходили: она ждет, пока пройдут люди, и ей можно будет заняться той смятой банкой из-под пива – там ей всегда остается на парочку глотков.
– Она что, разве пьет пиво? – удивилась Даша. – А у нас пиво любит только папа. И бабушка. А мы с мамой не очень.
Еще Вовик умел отличать хорошее дерево от плохого: Этот тополь – хороший, он поет внутри "У-а-а-о-о", зато вон тот, большой – плохой.
– Почему? – спросила Даша.
– Плохой!
Тем временем день подходил к вечеру. Забарабанил дождь.
– Бежим! – крикнула Даша, – и они пустились вовсю к подъезду.
Едва они вбежали под козырек, как хлынул ливень. Такой серый и мощный, что скоро ничего не стало видно.
Даша смотрела, как наполнялись и пузырились лужи, появлялись быстрые ручьи и потоки, и вот уже поплыли листья, окурки, ореховые скорлупки.
А Вовик смотрел на Дашу, приоткрыв рот, обрамленный молочной полоской, и лицо его сияло, как омытое яблоко. Благодарность распирала его маленькую душу, и он готов был идти за нею куда угодно.
Рядом, на первом этаже, приоткрылась форточка и бабушкиным голосом сказала:
– Даша, быстро домой!
– Пойдем к нам? – Даша взяла Вовика за руку, набрала код и вошла с ним в дом. Стальная дверь, вечно недовольная, громыхнула им вслед.
Дома было тепло, пахло вареной картошкой.
– О, у нас гости! – встретила их мама. – Давайте раздевайтесь, и будем ужинать. Не забудьте умыться. Как следует! Даша, ты слышишь?
– Слышу, слышу, – буркнула Даша, помогая Вовику снимать куртку.
А дождь лил и лил, срываясь водопадами с крыш, застилая окна. Вода уже плескалась у порогов подъездов. В домах наглухо закрывались форточки, в углах комнат сушились раскрытые зонты, на кухнях звякала посуда и хлопали дверцами холодильники.
– С кем это она там? – спросил папа, проходя мимо ванной.
– Да Вовика со двора привела. Пусть уж поужинает с нами, – ответила мама.
– Интересно, как это он пойдет в такую погоду? – озадачил себя папа.
– Не знаю, – мама посмотрела на папу и улыбнулась. – Может, утихнет скоро.
Вовик никогда еще в жизни так вкусно и много не ел. Он увлекался, сопел, вычищая тарелки, не замечая улыбок окружающих, а когда встречал их, лицо его принимало такой уморительно виноватый вид, что не рассмеяться было невозможно. Его, конечно, хвалили и ставили в пример Даше, которая нехотя возила вилкой по своей тарелке. Она с куда большим удовольствием рассказывала о том, чего наслышалась в этот день от своего маленького приятеля.
– Мам, представь, Вовик говорит, что наш дом на самом деле – морской корабль, а наша квартира находится в нем почти на самом "носу", ну, впереди...
У Вовика запылали уши.
– А еще он говорит, что твоя зубная щетка – вредная и злая тетка, правда, Вовик? А знаете, кого он назвал дедушкой? – Шкаф! Который стоит в моей комнате.
– Это потому, что он кряхтит, когда его открываешь, – вставил папа.
– Нет, оказывается, давным-давно он стоял в старом доме, и в нем прятали детей. А один раз даже хотели его сжечь...
– Давай-ка лучше доедай, догоняй своего Вовика, – сказала мама, собирая тарелки. – А шкаф и верно старый, я помню, была еще маленькая, когда дедушка привез его из комиссионки. Он ведь ореховый, таких сейчас и не делают.
Вовик сидел, опустив голову. Он был бы рад провалиться сейчас сквозь землю. Он медленно поднял глаза, переводя их с мамы на папу. На него было жалко смотреть.
– Ты чего, малыш, – подмигнул ему папа.– Все нормально.
Положение разрядила бабушка. Она вошла в кухню за чайником, посмотрела на всех и сказала:
– А что это наш гость красный такой? И глаза мне его не нравятся. Юля, посмотри-ка его.
И тут же ушла.
– Подойди-ка ко мне, малыш, – попросила мама.
Вовик послушно слез с табуретки и подошел к маме, не сводя с нее глаз.
– Да он горит весь, – тихо сказала мама, трогая его лоб. – И руки горячие.
На семейном совете было решено: положить Вовика в детской, а Даше постелить в бабушкиной комнате на раскладушке.
Мама быстро поменяла белье и стала копаться в аптечке, перебирая лекарства.
– Что теперь делать, не представляю. Я не знаю ни матери его, ни адреса, ни телефона, – сокрушалась она.
– Ничего, все образуется, – сказал папа.
Вовик лежал в Дашиной кроватке, совершенно потеряв ощущение времени и пространства. Впервые в жизни он не верил тому, что с ним происходит. Он лежал, боясь пошевельнуться, и смотрел в окно. Он видел, как по стеклу, сменяя друг друга, текут и текут, изгибаясь, струйки дождя, и чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Мама вошла к нему, еще раз потрогала лоб, подоткнула одеяльце и выключила свет.
– Как уголек, – вздохнула она, прикрывая дверь.
Даше строго было приказано не общаться с больным. Ей следовало почистить зубы и ложиться спать. Проходя мимо его комнаты, она вдруг уловила зовущий ее голосок:
– Дас! Даса-а!..
Оглянувшись по сторонам, Даша юркнула в дверь, подошла к кроватке и наклонилась к Вовику. Даша прислушалась.
Воспаленные губы малыша что-то быстро шептали ей в щеку.
– Я не слышу тебя, – она почти вплотную подставила ему ухо.
И услышала:
– Даса, мы поплывем далеко на калабле... плавда?
– Поплывем, поплывем. Обязательно. Спи, Вовик, выздоравливай.
А папа с мамой сидели на кухне и пили чай.
– У него все такое изношенное, старенькое, даже не знаю, что лучше – стирать или выбрасывать, – жалуясь, говорила мама.
– Да-а, – задумчиво позвякивая ложкой, сказал папа.
Утром Даша проснулась от шума упавшей вазы, которая стояла на тумбочке у изголовья. Комната мягко раскачивалась. Раскачивалась люстра. Раскачивалась герань со столетником. Раскачивался диван со спящей бабушкой. Даша вскочила с постели и едва не упала, потеряв равновесие. Из коридора донеслись голоса мамы и папы, и она бросилась к двери.
– Я теряю рассудок, Максим. Скажи мне, что происходит? Куда все девалось, откуда это взялось! Этого не может быть! Ведь это же невозможно!!! – причитала, уткнувшись в папино плечо, мама.
– Ничего. Разберемся, – говорил папа.
– Мама, что случилось? – одними губами спросила Даша.
– Дашенька, девочка моя,– мама прижала к себе дочку, покрывая ее слезами и поцелуями. – Я ничего не понимаю, я ничего не понимаю!.. – твердила она.
– Ну что ты стоишь! Сделай что-нибудь, мужчина ты или нет!
– Тихо, – сказал папа, – бабушку разбудишь. Всем оставаться на местах.
– Папа, ну скажи же? Что происходит?! – не выдержала Даша.
– Иди и посмотри в окно, – сказал папа.
За окном было море. Настоящее, огромное, как и положено, темнеющее в дымке у горизонта. Небо плавилось от солнца. По всей поверхности этой неспешно вздымающейся, тяжеленной массы воды не замечалось никаких признаков "утонувшего" города. Даша столько раз видела подобную картину в фильмах, по телевизору, но сейчас еле верила своим глазам. Ей показалось, что она услышала крики чаек.
– Пап, а мы не утонем? – едва переводя дух, спросила она.
Но вместо ответа услышала очередной взрыд плачущей мамы. Папа молчал. Он нервно покусывал свой ус и не произносил ни слова. Волны, как ни в чем не бывало, посверкивали себе на солнце, играли себе бурунами и катили друг за другом дальше и дальше...
– Самое забавное во всем этом то, – заговорил вдруг папа, – что мы еще и плывем...
Мама притихла и подошла к ним.
Даша посмотрела вниз и увидела, что, действительно, в метре от подоконника, вода заметно тянулась вдоль дома толстыми, расходящимися струями.
– Вот это да! А как же подъезды, двери? – сообразила Даша.
– Я смотрел. Сухо. Нигде не течет.
– Прошу тебя, Максим, скажи что все это значит? – взмолилась мама.
– Так, внимание! Сейчас все выясним, – бодро сказал папа.
Он ходил по комнатам и комментировал:
– Вода есть! Холодная и горячая! Свет есть! Телефон работает! Телевизор тоже!
– Надо позвонить на работу! – ожила мама.
Папа остановил ее в коридоре и, глядя на Дашу, сказал:
– Из квартиры не выходить, окна не открывать. Бабушку не будить.
– А ты куда собрался? – тревожно спросила мама.
– Пора подниматься на палубу, – ответил папа и чмокнул ее в нос.
Вовик спал сладким, благословенным сном. Море баюкало его в гигантской колыбели дома, а он спал и не ведал о том, что происходило сейчас в квартирах старой пятиэтажки, какие бушевали сцены, какие вопли сотрясали изнутри закрытые напрочь окна!
И пусть он спит и не знает, что Дашина мама опять плачет, потому что на работе никто не снимает трубку, а подруги уже боятся с ней разговаривать, потому что никто не верит, что их дом плывет, рассекая волны, неведомо куда и зачем. Он не знает, что уже проснулась бабушка и обозвала все это бредом, но, в конце концов, остановилась на "безобразии" и как человек исключительно практичный и деятельный, принялась, в свою очередь, обзванивать разные конторы, инстанции и департаменты... Но везде отвечали ей одинаково: что идет небывалый дождь, что все службы "парализованы", что "все мы в известном смысле плаваем" и что по причине всего перечисленного, "прийти к вам не смогут", но взяли на заметку и как только ситуация прояснится...
Сейчас бабушка сидит нахохлившись, смотрит "Санта Барбару" и даже отказалась от кофе. Мама с распухшими от слез глазами принялась за готовку обеда, время от времени всхлипывая и причитая и старалась не смотреть в окно. Даша, напротив, перебегала от одного окна к другому в состоянии небывалого, необъятного чувства, и эта восторженность, крепко хлопая парусами, вытесняла из ее сердца всякие, змеиного рода, страхи.
Папа все еще не приходил. Но больше всего ей не терпелось поделиться и порадоваться всему этому вместе с Вовиком. Мама два раза заходила к нему и поэтому Даша знала, что он еще спит, что температура спала и что надо бы переменить ему белье. И все-таки через полчаса Даша не выдержала. Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Вовик стоял, прижавшись к стеклу лицом, а по ту сторону окна, отпечатавши нос, блестела большущая морда дельфина.
– Мама, дельфин! – заорала Даша.
Мама выронила сковородку и вбежала к ним в комнату. Дельфин постоял еще немного на хвосте и плюхнулся вниз, осыпав брызгами окна и потом снова вынырнул, разрезая сияющим плавником зеленоватую воду.
– Еще один! И вот там тоже! – показывала пальцем Даша.
– Только бы не сойти с ума, – медленно проговорила мама.
Она стояла, ощущая ладонями тепло этих детских головок, и, глядя на их расплющенные носы, впервые за все эти безумные, изматывающие ее душу часы улыбнулась.
– Господи, что с нами будет?
...
Час шел за часом и ничего не менялось, дом как плыл, так и плыл себе и тонуть не собирался... а к стабильности, как известно, привыкают быстро и примиряются с самыми невероятными обстоятельствами.
Папа пришел взмокший, пропахший ветром и солнцем и голодный, как “морской волк”. За обедом он рассказал все новости. Сначала они вместе с соседом со второго этажа, через чердак, обошли все подъезды и убедились, что особой помощи никому пока в доме не требуется. Потом они спустились в подвал и убедились, что там тоже все в норме. Потом поднялись на крышу дома, которая с сегодняшнего дня станет гордо именоваться палубой.
– Красота неописуемая! – папа взял хлеб и стал намазывать его маслом.
– Лучше бы ее вовсе не было, этой красоты, – мама подлила ему еще один половник. – Мы уж как-нибудь обошлись бы без нее.
Бабушка вошла со своей тарелкой и по-куриному заглянула в кастрюлю:
– Что у нас сегодня, гороховый суп? А вчерашний остался? Вермишелевый.
– Там, в холодильнике, – отозвалась мама.
– Это просто безобразие, – продолжала бабушка, – Надругательство над народом. Сейчас смотрела новости по первой программе, там говорят, что такого в Москве не было “за все время наблюдения за погодой и даже за всю историю”. Этим они пытаются оправдать свою беспомощность!
– А что еще говорят?
– Да ничего. Что они могут еще! Бабушка зажгла горелку и поставила на нее кастрюлю. – Дума неизвестно где, остальные бубнят про выборы, а президент, как всегда “работает с бумагами”. На “горках” своих. А о нас ни слова!
– У него там в каждой комнате по рулону, вот он и работает, бедняга, с утра до ночи, – пожалел папа.
Мама посмотрела на него с укоризной, но не сдержалась и прыснула от смеха:
– Перестань.
– В общем, в три часа общее собрание на палубе. От каждой квартиры – по представителю. А так, приглашаются все желающие, – подытожил свой рассказ папа.
– А можно я тоже? Пап, ну можно? Даша обняла папу за шею.
– Ну, если все будет так же спокойно...
– Ура-а!
Вовика давно уже переодели и покормили. Он сидел на кроватке, прислушиваясь к долетавшим до него голосам, но ничего не мог разобрать.
– Вовик! Я в три часа поднимусь на палубу! – влетела к нему Даша.
Вовик был рад не меньше ее. Он тоже подпрыгивал и махал руками, восклицая какими-то непонятными гласными.
– А ну, по местам! – появилась мама. – Больной, вы ведете себя неадекватно.
Больной сложил руки и ухнул в подушки оловянным солдатиком.
“И какой он ненормальный? Обыкновенный ребенок”, – подумала она, смеясь.
– Что-то у нас везде духота такая, – притворно поморщился папа. – А ну, откройте-ка окно.
– Только не здесь, – решительно возразила мама. – Лучше у нас в комнате.
Море было спокойно. Море дышало в окна теплыми, разомлевшими от солнца волнами, и ноздри наслаждались их влажными, волнующими душу запахами. Бабушка с удовольствием подставляла лицо мельчайшим, окропляющим воздух каплям, а ее вздернутый к солнцу нос выражал собой полное примирение с судьбой и миром... К выходу на палубу готовились папа, мама и Даша. Вовик и бабушка должны были остаться в “каюте”. Но в последний момент бабушка убедила всех в том, что Вовик очень даже самостоятельный и вполне оставляемый на какое-то время мальчик, и что ничего страшного не случится...
На палубе-крыше дома собрались все, кто смог преодолеть чердачные лестницы. Люди жадно общались с соседями. Каждая семья пересказывала без устали свои утренние переживания и мелкие происшествия, которые неожиданно воспринимались теперь даже с юмором. Но тревога все-таки сквозила в душах, заставляла одинокие поначалу группки лепиться друг к другу, объединяться с другими, и к назначенным трем часам на палубе образовалась взволнованная разновозрастная толпа, чающая хоть какого-нибудь успокоения и определенности. В середину собрания вошел пожилой человек в белоснежной рубашке и заговорил сильным густым голосом.
– Меня зовут Михаил Илларионович, – начал он. – Я бывший моряк, капитан дальнего плавания. Буду говорить только о фактах нашего с вами положения и существования. Итак, первое. Мы находимся в открытом море. Второе. Мы плывем. По моим расчетам, приблизительно со скоростью восемь узлов. Третье. Мы плывем без всякого на то основания. Дом не оснащен корабельным оборудованием и двигателя не имеет. Это я все-таки проверил. Посадка его – невероятно для его веса низкая: ватерлиния проходит в метре от подоконников первого этажа. Управление отсутствует. То есть лавировать, поворачивать и останавливаться, а стало быть, и причаливать мы не можем. Четвертое. Течи нигде нет. Даже в подвале.
– Вот как раньше-то строили, – заметила бабушка.
– Пятое. Все коммуникации работают, и связь с миром есть.
– Да что толку-то! – выкрикнул короткостриженный господин в темных очках.
– Шестое. Курс или направление движения мы не знаем.
– Знаем. На тот свет! Или на дно! Вот и весь курс, – донеслось из толпы.
– Седьмое! – зыкнул капитан, и все разом утихли. – Нам неизвестно, сколько еще времени мы продержимся в отрыве от земли. Нам неизвестно, в чем и где наше спасение.
Он обвел синим взором стоящих перед ним жильцов.
– Теперь о том, что должны делать люди в нашем случае, и что мы обязаны сделать, если мы еще принимаем себя за людей. Здесь и сейчас мы должны сами, из своей среды, выбрать тех, кто возьмет на себя руководство по организации нашей жизни в этой ситуации, и координацию наших действий в случае какой-либо необходимости.
– Ну, самый “главный” у нас уже есть! – прогудел здоровый дядька в полинялой майке. – Давай, Михайло Илларионыч, формируй правительство. И дружный гомон собравшихся поддержал его большинством голосов.
– Благодарю вас за ваше ко мне доверие. Но мне нужны заместители и помощники.
– А выбирай любого! Мы все – вот они! – ободрился народ.
– Предлагаю от каждого подъезда выбрать своих полномочных представителей. Это нужно сделать не позднее утра, – капитан расстегнул ворот рубашки. – Они должны представить полные списки жильцов в своих отсеках с указанием возраста и профессии. Мы должны располагать необходимыми специалистами: врачами, учителями, радиотехниками, инженерами и так далее. Обращаюсь к каждой семье: составьте и передайте своим представителям полный, я подчеркиваю, полный перечень запасов продуктов первой необходимости. Мы должны знать, какие продукты и в каком количестве находятся в нашем распоряжении на сегодняшний день. Проблему продовольствия нам неизбежно придется решать сообща.
Хозяюшки, добавьте к списку продуктов также и перечень всех основных лекарств, что у вас имеются. Командиры отсеков должны представить фамилии и соответственно телефоны квартир, в которых находятся больные и которым требуется помощь. Указать, какая болезнь. Дальше. Все нормальные мужчины с этой минуты зачисляются в команды спасателей.
Наиболее смелые и предприимчивые войдут в аварийную службу...
Над головами жильцов величественно проплыл альбатрос. Люди задирали головы, провожая его полет, все еще не верилось, что они действительно в открытом море.
– Теперь что касается нашей надежды, – сказал Михаил Илларионович. – Нужно определить наши координаты и местонахождение: широту, долготу, и прочее. Этим займусь я. Желающие могут помочь в изготовлении навигационных приборов. Немного о грустном. Знаю, что все вы убедились с утра в одном: нам никто не верит. Поэтому нужно продумать, каким образом убедить “большую землю” прислушаться к нашим доводам и заставить поверить нам! Хорошо бы хоть пару мобильных телефонов для внутреннего пользования. Наверняка у кого-то из вас есть компьютер. Может, есть даже выход в интернет...
– Есть, капитан! – поднял руку долговязый парень, то ли студент, то ли старшеклассник.
– И у нас тоже, – заверила всех высокая молодая женщина.
– Отлично! Нам необходима наблюдательная вышка. Мы соорудим ее вот здесь на палубе, чтобы в случае чего подать сигнал земле или кораблям.
– У меня есть ракетница! – выкрикнул белобрысый мальчишка. Это был Никита, Дашин одноклассник из соседнего подъезда.
– То, что надо, – кивнул ему капитан. – Вышку начнем делать завтра. Подручные материалы, думаю, найдем на чердаке, да и в подвале наверняка что-нибудь имеется. Внимание! Детей без присмотра из квартиры не выпускать, смотреть за ними здесь, наверху! Помогайте друг другу, без этого пропадем. Сегодня дежурства на палубе не будет. На ночь все форточки и окна закрыть, все чердачные люки задраить. Но командирам быть начеку! А сейчас самое главное: не унывать! Не мучить себя и друг друга вопросами типа: Да как такое могло случиться, наперекор всем законам? Да кто же нами управляет? Да почему тогда не прекратилась вода, и газ, и электроэнергия, хотя провода оборваны?... Плывем! Сами видите. Не потонули до сих пор, Бог даст, не потонем и дальше. А в России еще и не такое бывает... Сами знаете.
– Сынок, у меня кран какой уж день течет, – обратилась к капитану старушка, – я ведь одна живу, – жаловалась она.
– Запиши квартиру и телефон, – обратился Михаил Илларионович к Дашиному папе. Он уже отметил про себя этого мужчину, оценив его действия сегодня утром.
– А у меня газ утекает, боюсь спичку зажечь, разнесет ведь! – подошел пенсионного вида мужичок в спортивном костюме.
– И его тоже пометь, – отреагировал Капитан и добавил – когда всех запишешь, обязательно найди меня. Потолковать надо.
– Ну все, – усмехнулась мама, – теперь мы нашего папу только и видели.
Собрание закончилось
Но день-то еще не кончался! Народ, растянувшись вдоль парапета, любовался морскими картинами. Море то стелилось атласной гладью, то пупырилось мелкими волнами, то ходило буграми, будто по дну его пробегало стадо африканских слонов...
– Господа, я думаю, что мы не понимаем до конца, что с нами происходит! Ведь это просто обалденная, дивная сказка! Я предлагаю всем нам сфотографироваться здесь, на фоне моря, на этой крыше! Пусть все остальные там, в том мире, который где-то остался, пусть они увидят нас потом, пусть поймут, что все это было на самом деле! – убеждала всех дама, утянутая в трико.
– Давайте, давайте! – с жаром подхватила Дашина бабушка. – Ах вы умница, как вы точно все сказали! Товарищи, это надо сделать непременно! Даша, иди сюда.
Что еще нужно людям, брошенным на произвол судьбы? Чувство общей опасности, растворенное общей надеждой, общий дом, общий путь и еще немножко такого, отчего хочется все-таки жить…
Потянуло прохладой. Взыграл аппетит. Захотелось в привычный, родной уют.
Даша все никак не могла расстаться с Никитой, и мамы тянули их к выходу, отрывая друг от друга, как сцепившихся мартышек. Вниз спускались дружно и шумно, и только у дверей квартиры вспомнили о Вовике. Даша первым делом метнулась к нему:
– Вовик, ты знаешь, как здорово!
Вовик лежал на боку, спиной к двери, и, казалось, не шевелился.
– Что с тобой? – осеклась Даша.
Малыш повернулся, и она увидела скорбный ротик и крепко сжатые ресницы, сочившиеся росинками слез. Он хлюпнул носом и снова отвернулся к окну.
– Ты обиделся, да? Тебе было страшно одному? Да?
Даша склонилась, коснувшись губами лобика:
– Все хорошо. Все дома. Мы о тебе не забыли. Ну. Не обижайся.
Вовик сел, широко открыв глаза, и замотал головой:
– Нет, нет!
– А что же тогда? – Даша теряла терпение. – Ну? Что еще случилось?
– Мамаська умерла... – еле услышала она между всхлипами.
И побежали, покатились тяжелые слезы, пропитывая рубашку. Она впервые слышала, как он плачет: “Как зайчик”.
– С чего это ты взял? Почему? Глупенький... – приговаривала она, не понимая, как это может быть, хотя люди действительно умирают, и все же до нее никак не доходило, как это может быть с мамой, как такое возможно, разве может мамочка, ее мамочка, умереть? Разве могут мамочки умирать, глупый дурачок, ему, наверное, что-то приснилось...
И тут она заметила в его руке необыкновенный матово-белый шарик, величиной с крупную черешню.
– Вовик, откуда у тебя это? – удивилась Даша. – Дай мне посмотреть. Ну, пожалуйста...
Вовик перестал плакать и заморгал. Он смотрел на шарик в своей ладошке, как будто и сам впервые видел его.
– Ну, пожалуйста, – уговаривала Даша.
И он протянул ей свой шарик.
– А кто тебе дал? Вот это да! Да это же ... Ма! – обернулась она к входившей в комнату маме, – это что? Жемчуг?!
Мама поняла обстановку с первого взгляда. Но сначала внимательно рассмотрела шарик.
– Да. Похоже, что это настоящая жемчужина, – сказала она.
Потом последовал обычный прием:
– Даша, зачем ты отняла у Вовика шарик! Отдай немедленно!
– Он сам его дал! – защищалась Даша.
– Да, я вижу, как он отдавал. Отдай. И больше не бери у него и не выпрашивай. Иди-ка лучше в ванную и забери свои игрушки и куклы. Бабушка надумала мыться.
Даше ничего не оставалось, как вернуть шарик Вовику и идти в ванную.
Вечером мама напекла блинов. Легких, душистых, дырчатых. Две высоких стопки. Вообще мама заметно повеселела, и все в доме зажило своей привычной жизнью, а жизнь пошла своим чередом. Вовик больше не плакал. Он сидел на кроватке, окруженный вафельным полотенцем, на котором стояла перед ним тарелка с блинами. Упоительное это занятие: сидеть и уминать блин за блином и смотреть в окошко на море. Да, теперь только и было у всех занятие, что смотреть в окно. О телевизоре как-то не вспоминали.
– Ты подумай, – говорил папа сидящей напротив маме, – все окна в доме – с видом на море. А! Где еще такое встретишь?
– На теплоходе! – нашлась тут же Даша.
– Ну, сравнила, – папа взял блин, свернул его трубочкой и отправил в рот.
Из ванной раздавались бурные всплески и пение.
– Все, сегодня Дашонку не спать. Бабуля наша разошлась. Как на ночь глядя помоется, так бессонница обеспечена, – сетовала мама, – теперь до утра будет ворочаться и вздыхать...
– Пусть в детской ложится, – предложил папа.
– А Вовик? – не поняла мама.
– А что Вовик? Температуры у него нет, насморка нет. Горло, сама говоришь, в порядке. Положить ее напротив, у двери, и все дела.
На том и порешили.
– Вовик, мне сегодня разрешили спать здесь! – тормошила Вовика Даша.
Малыш смеялся. Он прыгал и радовался, не веря своему счастью. Даша увидела, как из ворота его рубашки выпорхнул ослепительный крестик.
– Дай посмотреть, – попросила она.
Вовик растерялся. Он опустил голову и поглядел на крестик. Крестик был обыкновенный. Дешевый. С облупившимся золотистым покрытием.
– Хочешь, я тебе подарю новый, серебряный. Настоящий!
Вовик вдруг отшатнулся от Даши, и она увидела глаза, исполненные такого испуга, что ей и самой стало не по себе. Он неумело затряс головой, прижимая к груди свой крестик. Что с ним? Чего он так испугался? Ну что ты, что ты, бедняжка, подумала она, да не возьму я его у тебя.
– А ты знаешь, Вовик, – загадочно сказала Даша, – какие всякие рыбы и растения и змеи живут под водой?
Вовик не знал.
– Они там светятся разным цветом и их никто никогда не видит. Потому что они живут глубоко-глубоко и туда никто не может нырнуть!
Вовик оторопело слушал своего учителя. Это новое знание с трудом умещалось в его головку. Он даже повертел ею.
– Правда, правда, – уверяла Даша.
Но тут вошел папа:
– Так, господа, пора укладываться бай-бай. Даша, вот твоя раскладушка, будешь спать тут. Вот так. Ничего? Я тоже так думаю. Сейчас марш в ванную, оттуда шустро в постель. А то завтра никакой тебе рыбалки...
– Пап, правда? – вытянулась в струнку Даша. – Папуль, я мигом!
За окнами стемнело. Все еще непривычно покачивались стены, люди ходили, растопырив ноги, и что-нибудь постоянно падало. Скоро все разошлись по комнатам. Дети улеглись и затихли. А папа с мамой сидели на кухне и пили чай.
– Может быть, я дура последняя, – говорила мама, – может, я не понимаю чего. – Она с надеждой посмотрела на мужа. – Но вспомни, что Вовик сказал Даше. Помнишь, он сказал, что наш дом – это корабль. А сегодня она мне рассказала, что вчера перед самым сном, он прямо сказал ей, что мы поплывем. Ты понимаешь, так и сказал, что мы поплывем завтра, то есть сегодня! Ужас!
– Да-а, – задумчиво позвякивая ложкой, сказал папа...
Дом засыпал. Гасли окна, заводились по привычке будильники. Люди лежали с открытыми глазами, слушали мерный плеск волн и старались не думать о плохом. Постепенно усталость брала свое, веки смежались... И вот уже слышно, как папа побухивает вытянутыми губами, словно играет в войну, передавая пушечную пальбу при взятии Нарвы... И, кротко вздохнув, мама трогает его за плечо и папа тотчас прекращает свои “военные действия”, и поворачивается на бок, и на какое-то время воцаряется тишина. Неожиданно заснула за книгой и бабушка.
На небо вышла луна, усеяв волны волшебным моросящим светом. Темная коробка дома, тускловато отсвечивая чешуею окон, погружалась в пучину вод. На миг, задержавшись на поверхности, блеснул стеклами пятый этаж, и вот уж канули вниз антенны, закрутились водовороты и водоворотики...
– Уй ты-и, Вовик! Смотри, смотри, какие яркие... А там, смотри! Видел? Как в кино, правда?
Дети стояли у окна, накрывшись одеялами, похожие на два кулька, один маленький, другой – побольше. Вовик просто опешил от подводных видений. У него не было слов.
Красноватые скалы был увиты великолепными гирляндами растений, они тянулись вверх, колыхаясь и пропуская сквозь стебли сверкающие стайки рыб, которые неожиданно меняют направление и пропадают все разом в расщелине, и возникают другие стайки, излучающие голубое сияние, еще более необыкновенные, подобные мерцающим вспышкам салюта.
Перед ними открывались удивительные картины – чего стоил один вид долины, уходящей вглубь донного горизонта: долину окружали высокие обрывистые горы, ступенчатые склоны превращались в широкие террасы с подстриженными лужайками, и дальше – в холмы и равнины. Холмы были покрыты цветущими садами, поля волновались вдали спелыми нивами... Куда-то вели серпантины дорог, уходили в парках аллеи, поднимались мосты и били фонтаны... Среди причудливых домиков возвышались прекрасные здания. Выплывали медленные, как облака, рыбины, поводя выпуклыми глазами, а под ними – пассажирскими лайнерами – пролетали крылатые скаты...
– Вот это страна, – прошептала Даша. – Вот бы пожить в ней, правда?
Она увидела совсем рядом длинный коралловый дом. Из его квартир выплывали рыбки, заплывали друг к другу в гости, собирались толпой и кружились, уплывали куда-то и возвращались. Напротив него стоял такой же коралловый дом, а между ними...
– Так это же... – Даша не могла в это поверить.
Она увидела двух маленьких рыбок, играющих на детской площадке. У одной из них она заметила у хвоста розовую полоску, так похожую на ее, Дашину заколку, которой она каждое утро зажимает свой хвостик... другая рыбка была еще меньше, почти малек, с желтым клетчатым брюшком...
– Это же мы с тобой, Вовик! – воскликнула Даша, – Смотри: это – я, а это – ты! Видишь?
Вдруг откуда-то снизу, из глубокой тени, поднялась и застыла против них бездушная, как бревно, акула. Она висела, двигая челюстями. Даше показалось, что она говорит что-то вроде: “...Баунти – райское наслаждение...” Ее жуткая морда с дырками вместо глаз смотрела так, будто видела тебя насквозь.
Вовику ужасно захотелось, во-первых, превратиться в маленького муравьишку и спрятаться в щелку на подоконнике, а во-вторых – писать.
Секунду подумав, он решил начать со “второго” и, мигом нагнувшись, нащупал под кроваткой горшок.
Скоро вода за окном помутнела, побежали пузырьки, замелькали плавники и стебли, пол как будто приподнялся.
Дом всплывал, подрагивая мебелью и стенами, и через минуту с мокрым протяжным шумом на поверхность взмыла увешанная водорослями крыша. За ней показались окна, балконы... И вот отяжелевшая, одуревшая от приключений пятиэтажка снова закачалась на волнах и снова нехотя двинулась вперед, раздвигая углами толщу ночной воды...
Вовик спал, уткнувшись в подушку, как спит котенок, упираясь носом в теплый мамин живот. А Даше стоило только закрыть глаза, как перед ней опять появлялись образы этой чудесной подводной страны. Она долго ворочалась и вздыхала...
За окнами едва забрезжило утро, как затрещал мобильный телефон. Папа вздрогнул и нащупал трубку.
– Слушаю. Да, Михаил Илларионович, понял. Минут через пятнадцать-двадцать, – говорил папа.
Мама приподняла голову, не размыкая век.
– Звонил капитан, назначил встречу. Спи, – объяснил папа.
И мама послушно уронила голову в подушку.
Он поцеловал ее в макушку. Потом оделся. Сварил кофе. Позавтракал. Он терялся в догадках.
На крупном выбритом лице капитана не было ни тревоги, ни беспокойства. Только глаза как-то прицельно сощурились.
– Разрази меня гром, если я хоть что-нибудь понимаю во всем этом, – он показал подбородком на палубу. – Подводными лодками отродясь не командовал!
Это было впечатляющее зрелище!
Мало того, что ограждение и антенны были увешаны водорослями, так еще тут и там валялись, словно раскиданные чьей-то щедрой рукой, обмякшие рыбины, распластанные лапшой кальмары, какие-то рачки, крабы...
– И никакой продовольственной проблемы, – кисло пошутил папа.
– Ты посмотри, все балконы забиты рыбой! – не выдержал Михаил Илларионович. – Давай так, – он в упор посмотрел на папу. – Говори все, что ты думаешь об этом и вообще обо всем, что случилось за эти дни. Говори все! Даже то, что кажется абсурдным.
Папа пожимал плечами, что он мог сказать. Ничего такого... И неожиданно для себя сказал:
– Может, Вовик...
– Что за Вовик?
– Да жилец наш нежданный, – папа улыбнулся и стал рассказывать о Вовике. О его странных словах и фантазиях...
Капитан слушал, покачивая светлой прядью, пару раз хмыкнул. Потом перевел взгляд на море... потом поднял брови и посмотрел на небо.
– Михаил Илларионович, Вы понимаете, что...
– Береги этого пацаненка, как зеницу ока. И докладывай все, что он будет рассказывать, все, что он делает... Присмотрись к нему.
Они договорились вызвать на палубу аварийную команду. Надо было убрать водоросли. Слава Богу, паники удалось избежать, поскольку дом всю ночь спал, как убитый. А рыбу решили собрать на корме в одно место. Предполагалось пригласить сюда хозяек-добровольцев и попросить их разделать сии дары моря для общего стола. Идею общего стола предложил поднявшийся к ним Петр Алексеевич или, как называл его капитан, Петро.
Поднимались люди, брались за дело. Мало-помалу закипела работа.
Дом приводил себя в порядок.
Михаил Илларионович взял “грех на душу” и во избежание сплетен довел до общего сведения, что в появлении на балконах и крыше водорослей ничего сверхъестественного нет, что он в свое время уже сталкивался с подобными явлениями во время плаваний. Что это, на самом деле, некий “водяной смерчик”, который поднимает в воздух морскую живность, зазевавшуюся недалеко от поверхности... Хорошо, что потом никто не видел его – багрового от стыда.
До обеда все было убрано и вычищено. В центре палубы мужчины взялись возводить вышку. Светило солнце. Наступал полуденный зной.
На кухнях пахло жареной рыбой. Шкворчали сковородки, шипело масло, вздувались бугристые корочки... Домашние коты, жмурясь от усилий, хрустели невиданными хрящами и плавниками.
Даша с нетерпением ждала папу. Только он мог разрешить ей выйти на палубу. Так сказала мама.
Когда папа поел и отвалился, благодушный, на спинку стула, Даша немедленно угнездилась у него на коленях и стала подлизываться.
– Сегодня там много разных работ, – отдувался папа, – ты будешь всем мешать, и в конце концов тебя выбросят за борт.
– Не выбросят, – ласково отвечала Даша.
Папа посмотрел на нее смеющимися глазами:
– Ну, если только поближе к вечеру, – сдавался он. – Часа через три-четыре.
– Папуля, я тебя так люблю!
Бабушка вошла в кухню с последними новостями и, претендуя на общее внимание, заявила:
– В Москве по-прежнему дождь и потоп. Никто и ничто не работает. Кроме президента. Все сидят по домам, как в осаде. Синоптики сообщают, что такое безобразие продлится еще несколько дней.
Бабушка наложила себе горку риса, два куска поджаренной рыбы, присыпала с краю горошком и полила все это майонезом. Взяла два ломтика “бородинского” и удалилась в свою комнату, приказав остальным:
– Когда пойдете наверх, предупредите меня заранее, чтобы я смогла переодеться! Я хочу провести весь вечер на палубе.
– Все-таки это хорошо, что она ест отдельно, – вздохнул папа. – Для всех.
Они переглянулись с мамой и рассмеялись.
– А что у нас поделывает наш выздоравливающий? – спросил весело папа.
– Поел хорошо, температуры нет! – весело ответила мама.
– Пойду-ка я, проведаю малыша, – поднялся папа.
– Я с тобой! – повисла на нем Даша.
– Нет, Дашулька, – сказала мама. – Давай-ка займись музыкой, а то второй день, как флейту в руки не брала. Иди в нашу с папой комнату, я сейчас к тебе приду, – мама смягчила приговор поцелуем в поникшую щечку.
Первое, что увидел папа, войдя в детскую, было открытое настежь окно. Перегнувшаяся наружу фигурка оставляла в комнате лишь едва прикрытую рубашкой попку и пару ног, стоящих на табуретке. Папа подошел, и тоже высунувшись из окна, посмотрел вниз. Внизу были медузы. Огромные, как цветы: ярчайшие георгины, астры, хризантемы... Шевеля лепестками в прозрачной воде, они слегка кружились, покачивая кисейными шляпками. Интересно, кто ему открыл окно, подумал папа. Вовик смеялся, он был рад и медузам, и папе; вообще все так здорово складывалось в его жизни! Папа взял его на руки и закрыл окно.
– Вовик, – стараясь как можно приветливее, сказал папа. – Тебе нравится у нас? Жить с нами, играть с Дашей?
Вовик быстро кивнул.
– А плыть на корабле, качаться на волнах? Путешествовать? – хитрил папа.
Но Вовик опять кивнул без всяких сомнений.
“И как бы мне его спросить-то”,– думал папа. Он заметил, что выражение лица и улыбка Вовика в точности отражали, как в зеркале, его собственные.
– Вовик, скажи, вот мы все плывем, плывем... а вдруг возьмем и перевернемся! Или вдруг раз... и потонем! А?
Вовик внимательно рассматривал его лицо, смотрел, словно жалел его. И молчал.
Да, не получилось, “Не вышел номер”, – досадуя на себя, подумал папа. Он посадил его в кроватку, он уже разгибался, чтобы уйти. Но две теплые ручки на мгновение удержали его за шею и папа услышал торопливый, горячий голосок:
– Наш калабль ничего не боится!
Даша выдувала неизвестные миру ноты. Бабушка плотнее закрывала дверь. Мама закатывала глаза. Папа посмотрел на часы и сказал:
– Я думаю, Вовика можно одеть и пусть ходит, играет с Дашей. А то ему скучно там.
– Хорошо, я подберу ему что-нибудь из ее вещей.
Мама встала и подошла к папе.
– Ты уже уходишь? – сделала она капризные губки.
– Ухожу, роднуль. Пора уж, – он нечаянно привлек ее и поцеловал. Проводив папу, мама, загадочно улыбаясь, вернулась к Даше и пропела:
– Давай еще разо-ок и как сле-едует!
Смотровая вышка получилась на загляденье, вверху сделали небольшую площадку с перилами. Оттуда, притягивая взор, расстилалась неоглядная морская ширь. Капитан был доволен. Он позвал к себе папу и, когда тот взобрался к нему, сказал:
– По моим прикидкам, мы бороздим где-то в северных широтах. Получается, чуть ли не в Атлантике. Курса не меняем. Чушь, конечно, но не в Химкинском же водохранилище нам быть. Вторые сутки идем строго на запад, и хоть бы точка на горизонте!
– Может, все-таки это течение нас несет какое-то, – предположил папа.
– Хотел бы я знать, что это за течение такое. Нет, брат, это не течение. Капитан потер мочку уха и глянул вниз:
– Мужики! На сегодня хватит, заканчивайте. Спасибо! Здорово получилось, – он поднял большой палец и засмеялся.
Мужики и сами были довольны работой. Но расходиться не спешили. Передавая мобильный телефон друг другу, они вызывали своих домашних на палубу, – теперь было можно. Позвонил и папа. А в конце разговора сказал о том, чтобы одевались теплее и еще чтоб захватили ему куртку.
В самом деле, похолодало. Не совсем, конечно, но в одной рубашке – зябковато. Из чердачных выходов на крыше появлялись жильцы. Начались разговоры, гуляния по кругу, обсуждение новостей. Папа ждал своих. Первой выскочила Дашка и кинулась прямо к нему. Он подхватил ее на руки и закружил каруселью. Мама подала ему куртку и ткнулась носом в щеку.
– А где Вовик? – спросил папа.
– Они с бабушкой еще собираются, – ответила мама.
– Пап, а можно на вышку?
– Одной нельзя.
– А с мамой?
– Ты как?
– Ой, да я с удовольствием! – захрабрилась мама.
– Что, собрались открывать Америку? – Михаил Илларионович сошел с последней ступеньки и галантно подал руку Даше, помогая ей взбираться по лестнице:
– Долго там быть не разрешай, а то продует.
Море потемнело. Подул встречный ветер, облака стремительно таяли на глазах, пропуская сильное солнце.
– Папа-а! Па-ап смотри-и! – донеслось с вышки.
Наверху, раскинув руки, стояли друг за другом Даша и мама. Наклонившись вперед, они, словно две птицы, парили над домом.
– Как на “Титанике”! – кричала Даша.
Тем временем народу прибавилось. То и дело раздавался смех, смеялись же как-то странно, на любое слово; кричали дети; взгляды перескакивали с места на место и нигде не могли задержаться… Мужчины покашливали, но разговора не получалось, зато женщин как прорвало, говорили нетерпеливо и не могли остановиться, и все о пустом, о пустом…
– Земля! Земля-а-а! – раздалось сверху.
Все недоуменно застыли. Потом бросились к переднему борту. Но оттуда не было видно. Папа связался по телефону с капитаном и побежал к вышке.
– Даша, слезай. Юля, спускайтесь вниз! – старался перекричать он поднявшийся шум.
Пока они спускались, на палубе показался капитан. Он бежал тяжело, и люди расступались, освобождая ему дорогу. Он подошел к вышке и встал, пытаясь отдышаться. Подмигнул Даше. В руке он держал бинокль.
– Пошли, – кивнул он папе.
Он повесил бинокль на шею и стал карабкаться вверх.
На мостике капитан приступил вплотную к перилам и приставил к глазам бинокль. Улыбка его постепенно стянулась в твердо сжатый рот. Михаил Илларионович опустил бинокль и повернулся к папе:
– На, смотри. Прямо по курсу.
В бинокль был отчетливо виден скалоподобный, подсвеченный заходящим солнцем айсберг. Не кусок земли, не остров, сомнений не было. Это был айсберг!
– Говори тихо, – сказал Михаил Илларионович и показал глазами вниз.
Снизу смотрели на них, окружившие вышку люди. Смолкли самые безнадежные балаболки и даже дети.
– Мы идем прямо на него? – спросил папа.
– Пока да, – ответил Михаил Илларионович.
– Но, может, обойдется, – сказал папа.
– Все может быть, – сказал Михаил Илларионович. – Что людям говорить будем?
Папа поискал глазами своих.
– А что есть, то и будем говорить, – сказал папа.
– Ну, добро, – сказал Михаил Илларионович и стал спускаться.
Народ выслушал новость спокойно. Все смотрели на капитана, стараясь заметить хоть какую-то перемену в его лице. А капитан зевнул и сказал, что скоро все мы будем любоваться редким экзотическим зрелищем. Действительно, довольно скоро айсберг можно было видеть и без бинокля. Сотни глаз смотрели на него.
Время шло. Время бежало. Время неслось в молчании...
Капитан опять поднялся на вышку.
Через час айсберг приблизился на расстояние километра от дома. Он играл своими гранями, как громадный алмаз... Никто ни о чем уже не спрашивал. Сближались неотвратимо два разных куска материи: безмолвная “стальная” гора, и жилая старая пятиэтажка, квадратные ячейки которой, заставленные дешевой мебелью и пожитками, были пусты. Все были наверху по приказу капитана. Подняли даже больных и стареньких.
Подымалась и опускалась на ветру холодная, продуваемая ветрами палуба-крыша. Подымалась и опускалась на ней теплая горстка людей. Капитан спустился с вышки и стал перед ними. Надо было что-то сказать.
Мама встала перед папой.
– Скажи, родной, это все? Конец? И ничего больше не будет? – она вздернула уголками губ, – ничего больше не будет, понимаешь? Ничего, ничего...
Он целовал ее глаза, полные слез. Он ничего не знал. Не знал... Впервые в жизни не знал, что сказать. Главное – вместе, не потерять их в воде... только бы вместе! Он сказал помимо своей воли. Он сказал дурацкую фразу:
– Наш корабль ничего не боится.
Капитан хотел что-то сказать. Но увидел только прижавшихся друг к другу людей. Михаил Илларионович не выдержал и обернулся. Он смотрел, как быстро и плавно надвигалась на них ледяная гора. Вот тень от нее гигантским крылом накрыла стоящих. Оставались секунды...
Михаил Илларионович развернулся и встал против айсберга.
– Вот, все мы здесь, Господи! Все, какие есть. Грешные... – сказал он.
Он почувствовал, как за его спиной все опустились на палубу.
– Господи, Боже наш! – он встал на колени.
Дом шел на таран, целя правым углом в середину айсберга. Надежды не было.
– Помилуй нас!
Дохнуло морозом и бездной...
Но, видно, нет на свете ничего сильнее детского любопытства. Даша успела взглянуть за миг до удара и увидела на углу, который врезался в айсберг... Вовика. Он вытянул шейку и смотрел вверх. Над ним склонился высокий блистающий юноша, он бережно и легко поднял Вовика и понес по воздуху...
И тут же страшный удар сотряс каменный корпус дома. Ледяной истукан дрогнул от оглушительного грома. Корабль затрясся и встал, как вкопанный. Судорога прошла по всему его телу. Затрещали переборки и стены, лопались окна...
У всех на глазах несокрушимая твердыня льда вдруг раскололась, как упавший графин. Монолит распадался исполинскими кристаллами. Трещины разрывали его на части, с резкими, похожими на выстрелы звуками. Ледяные башни бухались в воду, обдавая людей брызгами и осколками...
Дом как-то подсел, как подрубленный, он все еще содрогался. Еще минута, и начнется крен...
Неминуемая гибель, исключающая всякие иллюзии на спасение, неожиданно затянулась, она гаденько медлила, издеваясь напоследок над душами, но шли секунды, мучительные, как пытки, и ничего не меняли, и тем самым рассеивали ее власть, а из тьмы неизвестности, вытягивая до предела нервы, рождалась слабенькая надежда, которую уже торопили, уже подталкивали, вытягивали на свет: неужели? неужели миновала? неужели опять...
Ветер стих. Разгладилось море. Это было спасенье.
– Слава Тебе, Господи! – сказал капитан.
Народ завертел головами, все еще прислушивался, ошалелый... Люди не верили, люди заплакали, когда поверили. Все слилось в один общий плач.
И только позже пришла настоящая радость – радость спасения!
И все затаили дыхание, когда дом-корабль двинулся понемногу вперед, сдвигая с пути громоздкие страшные льдины. Михаил Илларионович промокнул ладонью глаза и перекрестился:
– Поехали... С Богом!
Все загалдело, задвигалось, забурлило.
Сейчас же были отданы распоряжения аварийной команде и спасателям. Были обследованы и осмотрены этажи и квартиры. Трещин в корпусе не было! Течи не наблюдалось. С угла облупилось несколько керамических плиток, да кое-где осыпались оконные стекла. Мелкие повреждения устранялись, стекла вставлялись. Работалось радостно, на одном дыхании, и все получалось само собой. Народ, опьяневший от чуда, окружил капитана. Деваться ему было некуда.
– Качать капитана!
– Ура-а! – десятки рук подхватили и подбросили его в воздух.
Капитан хохотал и дурачился:
– Ой, ребятушки-и! Ой, уроните! Ой, о-ой!
Плясали в небе его желтые башмаки.
Освободившись от объятий, он подозвал к себе папу:
– Где твой Вовик? Где этот карапуз? Покажи-ка мне его! – он был на подъеме, дышал такой радостью.
– Да мы уж с ног сбились, нет его! – возбужденно рассказывал папа.
– Не может быть. Кто видел его последним?
– Даша моя. Но она такое говорит... Видимо, от шока. В общем, она говорит, что перед самым ударом он стоял как раз в том углу!
– Позови ее ко мне, я поговорю с ней, – попросил капитан. – Если можно...
На западе горел закат. Сумерки облачались в пурпур. Звенели бокалы. Рвались фейерверки. Рыжий толстяк носился по палубе, угощая шампанским, целовал всех подряд... Народ горланил и пел.
Даша плакала. Михаил Илларионович отвел ее в сторонку и достал из кармана большой платок.
– Расскажи мне все, – сказал он.
Говорили они недолго. Когда Михаил Илларионович отпустил Дашу, ее сразу обхватила мама и повела скорее домой. А он стоял неподвижно, слепо глядя перед собой. Лицо его было задумчиво и немного растерянно.
Люди все еще стояли в обнимку. Держали свечи. Смотрели на зыбкие огоньки. И говорили, говорили...
И все-таки природа брала свое, эмоции остывали, растревоженная душа искала покоя... Зевающие все чаще издавали какие-то древние протяжные звуки. Семья за семьей покидали палубу, и к тому времени, когда вышла над морем молодая луна, на крыше дома никого уже не было. Решили и в этот раз дежурных не оставлять. А просто дать всем как следует отдохнуть, знали, что больше ничего не случится.
Дом всеми своими клеточками погружался в сон. Царила ночь.
Над Москвой перестал падать дождь. Небо затворило уста. Закончился срок, упала последняя капля. На влажном небосводе все блестело росою звезд. Половодье сходило, бурля на перекатах. Пахло плесенью и тополями…
Бабушка встала, когда еще все спали. Прошла, раскачиваясь, по привычке на кухню. Открыла холодильник, нагнулась и нащупала банку с морсом. Именно в этот момент она услышала непонятный, чуждый этому миру звук! Подошла к окну, откинула занавески – и упала в обморок...
Падение тела повлекло за собой падение много чего другого: как бьющегося, так и небьющегося. Оркестр грянул и смолк. Первой вскочила мама. Вторым, немного подумав, папа. Любопытно, что, вбежав на кухню, они бросились не к бабушке, а к окну...
А за окном был двор. Тот самый, затопленный, серый, но свой! Родной! Напротив, как и прежде, стояла, как и положено ей было стоять, сестра-пятиэтажка, стояли поломанные кусты и деревья. Где-то верещала дурным голосом иномарка, потом вдруг пикнула и замолкла.
Даша проснулась и стала слушать. Что-то было не так. На кухне было тихо. И ничем таким вкусным не пахло.
– Ма-ма. Мама-а! – позвала Даша, предвкушая объятия маминых рук.
Но вместо мамы вошла с перевязанной головой бабушка.
Так Даша узнала, что они снова очутились в Москве, что мама с папой ушли на работу, что у бабушки травма от этой “идиотской действительности”, которая “не что иное, как издевательство над здравым смыслом”. Даша слушала бабушку и на душе у нее было... тоскливо. Она вспомнила о Вовике... Об айсберге. О капитане, о дельфинах, о подводных картинах. Она осторожно подошла к окну. Да, путешествие кончилось. Приключений больше не будет, подумала она.
Вовик, где ты? Где ты сейчас, доверчивый, смешной малыш? – спрашивала она всем сердцем. Глаза ее, как два родничка, быстро наполнялись слезами. Папа не верил ей, он сказал, что Вовика сбило за борт ударом айсберга. Он очень переживал. И мама, плача о Вовике, говорила ей то же самое.
А Михаил Илларионович не сказал ни слова. Но Даша чувствовала, что он верил ей.
Наскоро позавтракав, и обув сапоги, Даша выбежала на улицу. Кругом плавали листья и ветки. Даша решила обойти и осмотреть дом. Дом стоял как ни в чем не бывало. На своем месте. Но на углу были сбиты плитки! А в самом низу, у асфальта, дом зеленел морской плесенью и ракушками! Но главное! На крыше торчала вышка!!! Теперь-то она без труда докажет девчонкам свою правоту. Даша сжала в кармане теплый шарик жемчужины, которую подарил ей Вовик. Разве это не чудо? Вот же она – его жемчужина! Настоящая!
– Смотри, – она протянула на ладони шарик, – смотри, малыш, это твоя жемчужина! Ты видишь? Видишь?
И опять навернулись слезы. Вовик... Ну где же ты?
Вечером мама послала ее за хлебом. К ним в гости пришел Михаил Илларионович. Даша спешила, как могла. Ей очень хотелось успеть послушать их разговоры, а может, даже и поучаствовать в них. Ведь она тоже была участником этих невероятных событий!
Очередь в хлебном двигалась убийственно медленно. Но батоны убывали один за другим и в какой-то момент Даше стало казаться, что хлеба ей не видать, что придется бежать в другую булочную, но последний батон достался, однако, именно ей! Выйдя из магазина, она заметила возле самых дверей нищего старичка. Попрошайку. Он стоял, опершись на палочку, и приговаривал:
– Подайте на хлебушек, люди добрые. Кто сколько может. Спаси вас Бог!
Росточка он был небольшого. Он смотрел на всех снизу и улыбался. Проходя мимо, Даша вдруг повернула к нему голову. На нее смотрели глаза Вовика! Она не могла ошибиться, это были его глаза! Доверчивые, светлые-светлые... кроме которых ничего больше не было... Она стояла, как во сне, протягивая свой батон:
– Возьми. Возьми...
– Да что ты, милая, Господь с тобой, что ты... – говорил он.
– На... Дедушка, – произнесла она не своим голосом и вложила хлеб в его руку.
Пошел дождь. Крупный, редкий. Она стояла одна, вокруг никого уже не было. Сердце билось в ее груди. Она не помнила, как зажмурилась и, прикусив губу, побежала домой. Внезапно что-то приподняло ее над землей и понесло по воздуху...
Даша очнулась перед дверями своей квартиры. Она второпях влетела в прихожую и наткнулась на папу.
– Промокла! – засмеялся он.
Мама вышла из комнаты и ласково потрепала ее по головке.
– Да нет, сухая совсем! – удивилась она. – Ты что так запыхалась, Дашуль?
– Все нормально, – тяжело дыша, сказала Даша и положила пакет на тумбочку.
– Ну, иди в ванную, и будем ужинать. Мы тебя ждем, – улыбнулась мама.
Стол был накрыт в комнате. Слышался мужской говор, звук расставляемой посуды, кто-то красиво трогал гитару... Умываясь, Даша с ужасом вспомнила о том, что хлеба-то она не принесла! Она вытерлась полотенцем, вышла из ванной и, робея, вошла в комнату.
– О-о! – встретили ее общим хором, – вот она, наша красавица! Проходите, сударыня, присаживайтесь...
– Доча, ты где такой хлеб купила! – воскликнул папа. – Смотри, какой белый, пышный!
– А какой ароматный и сладкий! – нахваливал Михаил Илларионович. – Первый раз в жизни вижу такой батон!
– Нет, вы только попробуйте его на вес, он же ничего не весит, он как пух! – радостно тараторила мама.
Даша смотрела и не верила своим глазам. На столе, наполовину нарезанный, лежал большущий золотистый хлеб! Но ведь этого не может быть! Хотя...
Даша засмеялась. Она смеялась все больше и больше. Засмеялись дружно и взрослые. А Даша смеялась, понимая и зная все...
Ей вдруг стало легко, невесомо и весело!
КОНЕЦ
Назад к списку