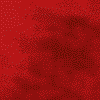Ярослав Шипов, священник, рассказы
"Святое дело" 
В храме тихо, чисто, светло, образа украшены тонкими березовыми веточками с клейкой листвой - пахнет луговой свежестью, пахнет наступающим летом... Троица!
В Троицу у нас на службу мало кто ходит, весь народ пьянствует по кладбищам. В центральной России под безбожные тризны приспособили Пасху - день, когда и покойников-то не отпевают, а у нас на Пасху еще холодно, случается, что и снега по пояс, так что удобнее оказалось сквернить праздник Троицы. Всякий местный житель, конечно же, растолкует, что "помянуть родню - святое дело". Из-за этой-то "святости" и водка, как здесь принято говорить, "от баб неруганная".
Входная дверь растворена, и, выходя на амвон, я вижу, как народ, вырядившийся во все праздничное, идет по улице мимо храма. Вот братья-плотники - они помогали мне восстанавливать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который когда-то эту самую церковь разрушал бульдозером, и который впоследствии погиб под гусеницами своего же бульдозера, вывалившись по пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и деда, служившего в этой церкви диаконом...
Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти полвека рассказывала школьникам, что здешний священник вел распутный образ жизни, и потому... у него было одиннадцать детей. И никогда не говорила, что единственный Герой Советского Союза, которым тихий район наш одарил родное Отечество, был сыном "распутника". Она идет на могилку к своему отцу, которого этот самый батюшка когда-то и окрестил, и обвенчал, и который в урочное время самолично вызвался отконвоировать старого протоиерея до тюрьмы, но не довел: умучал по дороге побоями и издевательствами и застрелил "при попытке к бегству". Сам же спустя несколько лет удавился...
Идут и идут люди: с гармошками, с магнитофонами, в сумках - выпивка и харчи. Плетутся за хозяевами и собаки, - то-то на погосте будет потеха... В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. Село - словно вымерло: ни души... Солнышко греет почти по-летнему. Снег давно уже стаял, прорезывается кое-где из стылой еще земли первая травка, а по обочинам дороги, где зимой пилили дрова, обсыхают вытаявшие рыжие опилки.
Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми, пьяными людьми: помянули родню на одном кладбище, теперь едут на другое, чтобы, стало быть, и остальных предков вниманием не обделить.
Двое пьяненьких, до нитки вымокших мужичков бредут навстречу:
- Отец, горе у нас!.. Друг утонул... Пировали на берегу, а он говорит: "Топиться хочу", - и в реку... Ну, мы - за ним: мол, у нас еще и выпивка есть, и закуска... "Ладно, - говорит, - давай допьем". Вернулся, допили, а он опять в реку - шел, шел и утоп... Мы поискали маленько, ныряли даже, да разве найдешь - течение, вода мутная... И холодно - жуть... В общем, идем большую сетку искать: перегородим реку - когда-никогда всплывет, поймается... И это: с праздником тебя, отец, с Троицей!..
У крыльца, потягиваясь, встречает меня кот Барсик, разомлевший от долгожданного солнца. В почтовом ящике - толстый пакет из епархиального управления. Вскрываю: "Христос воскресе!" - поздравление... с Пасхой. В сознании что-то мешается: вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход по сугробам - аккурат семь недель прошло... "Воистину воскресе", - машинально отвечаю я...
И кажется, что здоров среди нас один лишь Барсик.
|
Равелин
Дом этот сохранился. И доныне пассажиры дальних поездов, непрестанно снующих в обе стороны, могут через окошки вагонов наблюдать диковинное сооружение, напоминающее собою мощный дот, которому дерзкий зодчий постарался придать черты классического европейского коттеджа. Перед домом, а фасадом своим он обращен к железной дороге, один ряд тополей - ровесников дома, давно переросших его двухэтажную высоту. И более ничего рядом нет: ни строений, ни столбов с электричеством. Посему внимательный наблюдатель не может не удивиться и не задуматься: какая жизнь возможна в этом фортификационном сооружении, когда расположено оно в таком нежилом и даже пустынном месте?.. Прав будет внимательный наблюдатель: нет здесь никакой жизни.
Но была. Было электричество, был колодец, баня, сарай, была дорога, переезд, шлагбаум, будка стрелочника, стрелка, ветка на торфоразработки, еще стрелка и тупичок... А в самом доме частенько собирались битые жизнью, веселые люди, называвшие дом равелином. И был у равелина хозяин: военлет Ермаков, вдосталь налетавшийся над германской землей и после войны вознамерившийся построить дом наподобие немецких, но покрепче. Без проекта, так, по одному лишь творческому произволению, но этого оказалось достаточно.
Военлет Ермаков, прозывавшийся для краткости Ермаком (при этом имя его за ненадобностью забылось), всегда был притягателен для меня. Вероятно, потому, что в жизни его воплотилось нечто, чего бы и мне хотелось, да вот не сподобился. Жизнь эта разделялась в моем восприятии надвое: самолеты и охота. Была, впрочем, еще одна часть, может, даже эпоха, длившаяся всего три дня, однако она существует особняком, потому что в ней - запредельное чудо. Что же до архитектурных изысканий героического военлета, то они, при всей их несомненной художнической дерзости, на самостоятельную часть претендовать не могут. Хотя и отражают некоторые черты этой оригинальной личности.
В кругах авиаторов Ермаков был человеком довольно известным. Некоторые военные историки как раз с его именем связывают случай, раскрывший неожиданные возможности штурмовика Ил-2. А дело было так. Возвращаясь с задания новехонькие, только что поступившие на вооружение штурмовики попали под обстрел. Один из них получил значительные повреждения, отстал o от своих и еле-еле тянул над лесной дорогой к линии фронта. Впереди показалась колонна пехоты противника, направлявшаяся на передовую. Боезапас был израсходован, и пилот, снизившись до двух с половиною метров, так и прошел над колонной... Когда он вернулся, обнаружилось, что в полк прибыла группа конструкторов, желавших узнать, как показывает себя новый самолет в боевых условиях. Они уже расспросили других пилотов, вернувшихся раньше, и теперь набросились на изрешеченную машину, которой уже и не чаяли дождаться.
С пробоинами им все было понятно, но непонятно было, почему фюзеляж заляпан какими-то ошметками и отчего лопасти винта оказались наполовину обгрызенными. Летчик был вынужден доложить всю правду и, надо полагать, ожидал наказания, потому что обычно за правду бывает от начальства неуклонное наказание, но против ожидания и вопреки всякому смыслу на сей раз наказания не случилось: и генералы, и дядечки в черных штатских пальто молчали, - и неведомо было, какие технологические соображения свершались в их конструкторских головах.
Потом один спросил:
- И как же машина вела себя при этаких параметрах?
- Как утюг, - понуро отвечал летчик. И, похоже, в его ответе содержалась некая научная точность, потому что лица и генералов, и штатских вмиг просветлели.
- Да это еще что! - летчик воспрянул духом. - Мы тут, когда праздновали день рождения нашего комэска.., - он собирался рассказать нечто еще более впечатляющее, но командир полка судорожно перевел разговор на другую тему.
Теперь, конечно, достоверно не установишь: Ермаков ли воевал таким образом или не Ермаков. А может, и Ермаков, и кто-то другой, и третий... Но воевал он много и довоевался до Золотой звезды.
После войны он освоил другой редкостно замечательный самолет - Ил-28, на котором возросло множество военных и гражданских летчиков. Самолет был послушен и прост в управлении, как трактор, однако судьба его оказалась печальной: все машины были изведены во время разоружения, затеянного Никитой Хрущевым - первым в череде безблагодатных правителей, не умевших вместить в себя ни географию России, ни ее историю. Ермаков служил летчиком-инструктором, пока не исчезли "двадцать восьмые", потом вышел в отставку и впредь уже занимался только охотой.
Собственно, в основном для охоты и строился равелин. Дело в том, что торфяные карьеры, выработанные в тех местах, со временем наполнились водой, обросли кустарником и превратились в замечательнейшие охотничьи угодья. Писатель Пришвин, знавший, как известно, в охоте толк, наведывался в те края и, по слухам, не раз останавливался в равелине. Надо сказать, что настоящими охотниками в тогдашние времена почитали лишь избранных, то есть тех, для кого охота - неодолимая страсть, вроде любовной, а может, и посильнее, словом - пуще неволи. Были еще "мясники", гонявшиеся за мясом, обычно за лосем, и, наконец, промысловики, профессионально занимавшиеся добыванием пушного зверя. Если к "пушнякам" настоящие охотники относились, хоть и без восторга, но с уважением, то "мясников" откровенно презирали: охота - праздник страсти, а страсть всегда расточительна... Какие уж тут могут быть поиски выгоды? И "мясник" ни при какой погоде не мог попасть в компанию к любителям вальдшнепиной тяги или, скажем, к гончатникам. То есть путь в приличное общество был ему навсегда заказан. Ермаков, понятное дело, принадлежал к числу охотников настоящих, потому-то и построил свой равелин в этом месте: утиная охота - дело азартное, только успевай мазать да перезаряжать. Общество ему составляли самые разные люди, но главных приятелей было двое: друг детства, ставший известным писателем, и дальний родственник, вышедший в большие железнодорожные начальники. Без этого родственника, кстати, равелин бы и не построился - поди-ка завези в этакую глушь цемент, кирпичи, доски... А ему все это было легко - он и на охоту ездил в отдельном вагоне: в Москве вагон подцепляли к скорому поезду, на ближайшей к равелину станции - отцепляли, и далее паровозик-кукушка доставлял вагон в тупичок.
Построив равелин, Ермаков стал пропадать в нем сначала неделями, а потом, по мере ухудшения отношений с женой, и месяцами. Жена приезжала "на дачу" только однажды и сразу же возненавидела и тянувшуюся до самого горизонта сырую низину, столь милую сердцу Ермакова, и сам дом, который, при всей своей наружной замысловатости, был внутри необыкновенно уютен. Думается, однако, что причиною оказался не унылый пейзаж и не мрачность равелина, а то, что в отношениях этих людей доброжелательность стала сменяться неприязненностью.
Отчего уж так дело складывалось - не знаю, знаю только, что жена Ермакова была мало того что красивой, она была - царственной женщиной. Хотя я видел ее только весьма пожилой, когда о прежней ее красоте оставалось только догадываться, царственность, сохранялась в походке, осанке, в манере садиться, в повороте головы - в каждом движении...
Познакомились они после войны, быстро расписались, а потом все пошло как-то нескладно, не так... Была у нее дочь от первого брака, заводить второго ребенка она не хотела, и, прожив вместе лет десять, супруги незаметно для себя разбрелись. Даже не разводились, просто Ермаков в конце концов перебрался в равелин на постоянное жительство. Сначала он помогал им деньгами, но потом дочь ее удачно вышла замуж, и необходимость в Ермакове совсем отпала.
И вот тут началась у него такая жизнь, какую и самое мечтательное воображение придумать не сможет: он охотился едва ли не круглый год. Скажем, десятидневный весенний сезон растягивался у него на четыре месяца: начинал он в марте на Сальских озерах, потом перемещался в залитые половодьем заволжские степи, где сезон открывался чуть позже, потом в Мещеру, из Мещеры - в свой равелин... Затем ехал в Костромскую область на тетеревиные тока, оттуда - в Вологодскую за глухарями... А заканчивал где-нибудь на Ямале, где охота открывалась в июне.
Конечно, никакой пенсии на такие путешествия не хватило бы, но Ермаков воспитал столько пилотов, что во всяком месте непременно обнаруживал кого-то знакомого, а, кроме того, любой профессионал сразу чувствовал в нем матерого, и потому всюду, куда только летали самолеты или вертолеты, Ермакова доставляли бесплатно. Интересно, что добытую дичь он почти никогда не ел - отдавал тем, у кого останавливался, мог даже приготовить - и очень неплохо. Каких-либо кулинарных предубеждений у него не было, просто он считал, что достаточно ему удовольствия от охоты, а уж дичью пусть побалуются другие. Сам же потреблял хлеб и консервы. Хирург, который впоследствии делал ему операцию, очень ругал Ермакова, мол, эти дрянные консервы его и погубили. Но Ермаков только посмеивался в ответ: ему было жалко доктора, который ничем не мог помочь, и хотелось как-то утешить его...
Узнав, что Ермаков смертельно болен, жена, с которой они не виделись двадцать лет с лишком, забрала его из больницы и ухаживала за ним. С полным, впрочем, равнодушием. Собственно, никакого особого ухода он и не требовал: есть не мог вовсе, принимал иногда обезболивающую таблетку да запивал ее глоточком воды. И так, претерпевая мучительные боли, Ермаков умирал.
Если о предыдущих событиях я знал, в основном, от охотников, то о чуде последних дней его мне рассказывал знакомый священник, а кое-что довелось свидетельствовать и лично.
Однажды, зайдя к нему в комнату, жена обнаружила его сидящим на кровати. Это поразило ее, так как у больного давно уже не оставалось сил, чтобы подняться. Но еще более поразили ее глаза Ермакова: они сияли тихим радостным светом. Да и весь вид его был каким-то новым, неожиданным, просветленным: небритый и нечесаный доходяга превратился вдруг в седобородого старца с ясным взором. Впоследствии, рассказывая об этом, она говорила: преобразился, и вспоминала сказку о гадком утенке.
Твердым голосом, исполненным силы и спокойствия, он сообщил, что через три дня умрет, и попросил пригласить для исповеди священника.
- Так ты, поди, и некрещеный, - возразила жена. - Ты ж сам говорил, что не знаешь, крестили тебя или нет.
- Крещеный, - улыбнулся Ермаков. - Теперь точно знаю: крещеный. - Откуда ж ты все это взял? - Господь открыл, - сказал Ермаков. Она махнула на него рукой.
Явился священник. Пробыл у больного с полчаса и вышел в состоянии блаженной задумчивости. Следом за ним вдруг вышел и причастившийся Ермаков: попросил накрыть на стол и принести водки. Супруга вопросительно посмотрела на батюшку.
- А чего? - пожал он плечами. - Можно.
И они вполне по-праздничному посидели за столом, и Ермаков выпил целых три рюмки водки. Настроение у него было возвышенное и радостное - он сам говорил, что никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым.
- Да ты чему радуешься? - испуганно недоумевала жена. - Тут хоть у тебя этот каземат есть...
- Равелин? - улыбнулся он. - В равелине хорошо, но и он - временный. А там, - Ермаков указал взглядом сквозь потолок, - вечный...
Он рассуждал непривычно, и жена совсем не понимала его.
Ермаков прожил отпущенные ему три дня в счастливом состоянии духа и совершенно неболезненно. Тот же батюшка, пришедший без всякого дополнительного приглашения, но в заранее оговоренное время, прочитал отходную, а когда Ермаков умер, поведал, что Ермакову являлся Господь, открыл ему время кончины и велел исповедаться и причаститься. Причем, по словам священника, ему за его многолетнюю практику еще не доводилось слышать такой полной и искренней исповеди.
- За что же ему такие чудеса? - неприязненно поинтересовалась супруга. Батюшка сурово посмотрел на нее, словно хотел высказать нечто нелицеприятное, но сдержался и лишь холодно промолвил, что пути Господни неисповедимы.
Я присутствовал при сем в качестве пономаря - разжигал угольки в кадильнице, и, когда мы вышли из дома, тоже, признаться, не сдержал любопытства. Однако и мне священник отвечал точно так же, добавляя разве, что и год жизни с такою дурой можно приравнять к мученическому подвигу... Так что тайна чуда осталась в неприкосновенности.
Похороны были бедными. Большинство приятелей Ермакова давно уже оставили этот мир, а если кто и жив был, так жена Ермаковская никого из них не знала и никому ничего сообщить не могла. Присутствовали только дочь с мужем да еще какие-то родственники.
Проводив Ермакова на кладбище, священник ехать на поминки отказался и денег за отпевание не взял.
|
||
|
|
||
Дрова
Переселился в деревню, а дров - нету. Спрашиваю - купить, но никто не продает: самим, дескать, надобны. У некоторых запасено столько, что и до скончания времен не спалить, топи хоть круглые сутки. Стоят вдоль огородов нескончаемые поленницы: иные и почернели, и гниют, но: "самим пригодятся". И ничего уж тут не поделаешь - это по-крестьянски...
Между тем подошел ноябрь, стало холодно. Тут, по счастью, нашелся жертвователь - облагодетельствовал целой телегой дров. Правда, дрова эти были рассыпаны по двору пилорамы: у мужиков что-то не задалось с вывозом - перевернули и телегу, и трактор. Впоследствии разная тяжелая техника закатала поленья в грязь, а грязь замерзла от наступившего похолодания. И вот обухом колуна навыколачиваю дровишек, привяжу к багажнику велосипеда и - домой. Пока одни горят, другие сушатся в устье печки: завтра - им гореть, а сушиться будет следующая вязанка. Конечно, и грязи от этих дров было несметно, и пар по избе плавал, точно облако, но тепла хватало вполне. Все бы ладно, да началась зима и дрова мои засыпало снегом, отчего они превратились в полезное ископаемое.
Как-то разгребаю сугробы в поисках спасительной древесины - подъезжает автомобиль. Выходят из него люди в черных пальто и начинают махать руками в разные стороны - ведут, стало быть, начальственный разговор. Потом приблизились посмотреть на непонятное им занятие. А я как раз три чурочки раздобыл, четвертую выколачиваю. Глянули они и рассмеялись:
- Лес продаем тысячами кубов, а священник дровами не обеспечен.
- Вот, - говорю, - и выпало вам счастье принести достойный плод покаяния.
- А мы - безбожники, - и снова смеются.
- Безбожники, но - православные, христианские? - спрашиваю.
- А какие еще бывают?
- Ну, наверное, иудейские, мусульманские...
- Нет уж, отец, нам этого не надо: мы - свои...
Через несколько дней прислали они грузовик: еловые пни, оставшиеся после разделки стволов. Эти дрова тоже были сырыми, горели плохо, дымили, да еще и стреляли из печки мелкими угольками, но благодаря им я дотянул до того времени, когда началась очередная заготовка топлива.
Двое механизаторов взяли меня в компаньоны, и на колесном тракторе мы отправились далеко за реку. Весь день валили деревья, обрубали сучки, назавтра - опять туда же. Вечером возвращаемся, сосед говорит, что за мною приезжали - отпевать, но так и уехали восвояси. Причем старик, хоронивший брата, сильно бранился: негоже, мол, батюшке бродить на лесоповал - он должен сидеть дома, дежурить, как врач "скорой помощи". Старик, конечно, был прав.
Утром я помчался вослед за ним и успел. А потом он рассказал мне, как была устроена приходская жизнь в прежние времена. Мир определил нарезать церкви тридцать шесть гектаров земли: восемнадцать - священнику, двенадцать - диакону и шесть - псаломщику. По одному гектару от каждого можно отнять: на этой площади были храм, погост, школа. А остальная земля кормила клириков: сами прихожане арендовали и обрабатывали ее, расплачиваясь натуральным продуктом. Причем священнику строго-настрого воспрещалось работать: лишь в самом начале сенокоса дозволяли ему пройти рядок по луговине и отправляли домой. Дровами его снабжали в любых количествах и, само собою, бесплатно.
- У батюшки жизнь - сплошное дежурство, - поучал старик. - Работу за него сделает мир, но уж если что духовное понадобится: исповедь, соборование, крещение, венчание, отпевание, - батюшка должен быть на месте и в полной готовности... А потом: руки... Гляньте-ка на свои руки... То-то и оно - обыкновенные: в порезах, мозолях, чернота въелась... И у меня такие же. Но я никого не благословляю, к моим рукам никто не прикладывается... А священнику приходится еще и новорожденных в купель окунать, и венцы цеплять на молодоженов - куда ж с такими страшными лапами?..
И снова старик был прав.
Впредь я уже на заготовки не отлучался: выписывал в лесничестве необходимые пятнадцать кубических метров, и лес приволакивали мне прямо к дому. Оставалось распилить два десятка хлыстов, переколоть и уложить в поленницы. А еще - завел в храме наждак, которым и доводил руки до приличного вида.
Так и учился уму-разуму помаленьку.
http://lifestories.narod.ru/main.htm
Назад к списку